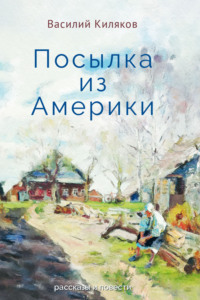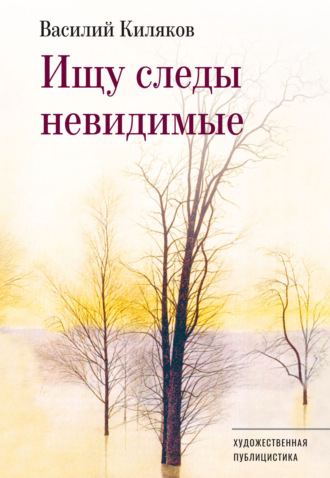
Полная версия
Ищу следы невидимые
…Мир кухонь, складов и продмагов – не книжный мир, а самый «настоящий»… Но тем, первым, которые уходили из деревень в города, – им тоже надо было как-то обосновываться. И тут-то герои, подобные Николаю Гавриловичу Кузовникову из названного рассказа, – с виду те же «чу́дики», прищемлённые, ущербные (те же, да не те!..) – давали сто очков вперёд коренным городским жителям. Сегодня читаешь эту прозу – и думаешь, что, не торопись Шукшин с публикациями тогда, сорок лет назад, дотяни он, докопайся до сокровенного тех «чудиков»-героев – то дотянули бы они до незабываемых характеров, до прозрений, и многое было бы понятней и в наш сегодняшний день… Кое-что они, эти недописанные «типы» Шукшина, и впрямь объясняют нам сегодня в нашем «случайном» либеральном мире – многое, но не всё. А так, как написаны – эти кладовщики, бухгалтеры – они не до конца понятны и до сих пор: ни критикам из столиц, ни читателям из деревни. Если и читают о них сегодня, то не с удивлением, а узнавая этих типов в своих дедах, отцах и – для отдыха, с усмешкой, по-простому, с «зубоскальством». Сначала и я так читал.
«Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать её», – это одна из последних записей в книге Фёдора Абрамова, тоже почвенника, в «Траве-мураве». Следуя этому завету мудрого, много повидавшего на свете, травленного критиками архангельского писателя, порой и впрямь хочется «передумать» свои и чужие рассказы, сравнить свои строчки – со строками близких по духу писателей. И тогда – вот тогда! – какой же непростой кажется мне лёгкая, «на прилёг» или «присест», проза Шукшина!
Так «что же с нами происходит?» Или произошло уже, и последствия необратимы? По-разному можно объяснить этот сегодняшний безуспешный кризис-поиск смысла жизни. Кризис понимания долгожданных либеральных свобод – и их результатов. За этой свободой и рвались в большие города – в Москву, в Питер – из деревень: туда, где откроешь кран – и вода горячая! Точно по пророку Иеремии: «Отдам сокровища твои на разграбления… за грехи отцов ваших…» И кто же станет отрицать, что жертвы не были принесены? И вот, вырвавшись (как нам вдалбливали «прогрессисты», лукавые «перестройщики») из восьмидесятилетнего плена вавилонского, народ тотчас попал под другой, едва ли не худший: «отдан на разграбление». Теперь уже – всё, без милости и без возврата. Но Шукшин – писатель «от земли», и он предупреждал: его не услышали.
Творческому пути В.М. Шукшина именно публикации последних лет подводят черту. И теперь уже ясна та сокровенная мысль его, та настойчивость, с которой пробивал писатель и сценарист своего «Степана Разина». Монтаж коротких сцен ужасал даже видавших виды критиков и режиссёров: разрубание икон, плоты из трупов казаков… «Если изъять жестокость и кровь, то, учитывая происходящее, характер действующих лиц, ситуацию, мгновенный прорыв (что и случилось, видимо), нельзя решить эту тему. Её лучше и не решать, потому что тогда потеряем представление о цене свободы. Эту цену знает всё человечество. Русский народ знает, чем это явление оплачивается», – писал Шукшин в ответ на отрицательное решение о судьбе фильма на худсовете 16 февраля 1971 года. Похоже на роковое предупреждение: он будто бы знал, видел, чувствовал то, что назревало, что уже назрело… И совсем «не так просто», как это писалось и объяснялось «соцреализмом», – видел во всём близком ужасе и глубине. А соцреализм показывал по телевизору «Юркины рассветы» или твердил о преемственности сталеваров в городах Электростали и Магнитогорске. Уже тогда он, Шукшин, видел, что жизнь, действительность как бы распадалась на сиюминутные дела, на истину явную – и некую другую, скрытую, непонятную. И странно было (и тогда казалось странным!..): по советским меркам материально обеспеченные люди, не стесняясь в средствах, заимели не только «отдельные секции» в городах, а и в самой Москве – трёхкомнатные квартиры, с прислугой, выучили детей, сыновей (в том числе и собственным примером жизни) в вузах… А что-то от прибыли денежной у них ни счастья, ни радости, и какое-то странное чувство пустоты мешает им жить дальше. И хочется выговориться, чтобы хоть кто-нибудь в этом чужом и чуждом мире им сострадал, кивал бы головой, сочувствовал… Какой-то не материальный, а душевный, даже духовный, уже тогда назревший кризис… Он и лечиться мог только духовно. «Вы́говориться» значило: исповедоваться, разделить страдание, очистить душу. Но церкви нет – зато есть вместо церкви упорствующий «крепкий мужик», разваливший единственный храм двумя тракторами, есть «изящный чёрт», рвущийся мимо всех к алтарю (и прорвавшийся!..) вместе со всей силой бесовской (сказка «До третьих петухов»). И вот – изгнаны монахи из храма, но и этого мало. Изящный чёрт «изящно» же требует переписать и иконы в храме. Вот вам уже – и не храм, а сахаровский центр с выставкой «Осторожно, религия». Или я ошибаюсь?
И тут Шукшину нет равных, тут – целое открытие в литературе – эти циклы рассказов о страдающих нераскаянных душах (и в сказке, и в недописанном романе «Любавины»), которым и каяться-то негде – только друг другу да самим себе. «Каются» они так: выпьют стакан водки без закуски и идут для беседы на вокзал (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), или прямо к «Николаю Угоднику» – тестю (рассказ «Билет на второй сеанс»), или – к старухе-сторожихе Марии… Или просто плачут у могилы («Случай на кладбище»), излагают грех свой и боль – кресту на могиле да земле под вечерним равнодушным небом и луной («Счастье ли, горе ли здесь, на земле – сияет»)…
Три очень похожих рассказа условно объединены мной в один цикл. О нём, об этом цикле, и поведу речь. Таких рассказов у Шукшина – не три и не четыре, их много. Более того, один сюжет рассказа как бы дополняется вторым и третьим (сборник «Беседы при ясной луне»). Сборник называется по наиболее яркому одноимённому рассказу. Вступление, зачин его – не броский, не «триллерский», естественный: тихое повествование, краткая предыстория. Зачин, очень характерный для автора: «Марья Селезнёва работала в детсадике, но у неё нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась». И тут два абзаца не для главного персонажа: зачем писать, да ещё в зачине, вступлении, как попала в сторожа Марья? А не лучше ли начать прямо и броско: «И стала она сторожить сельмаг». Но и тут Шукшин идёт от правды, «от жизни» – или, вернее, «к правде жизни». «Нашли па́лочки», – и вот уже верится, что была и впрямь такая Марья, и всё, что с ней происходит впоследствии, тоже было. Подробность – великая сила, а у Шукшина особенно: она жизненна. Это не модерн, тем более – не постмодерн, пусть и западный, где, перегревшись на солнце, какой-нибудь француз-ницшеанец может пристрелить араба, просто от странно упавшей тени на глаза, «во всём виновато солнце!»… Итак, вернёмся к жизни Марьи: «И повадился к ней ночами ходить старик Баев». Главное: интерес читателя мгновенно перекидывается с Марьи на Баева, – метод, знакомый литературе.
Тип этот, Баев, узнаваемый – и всё же чисто шукшинский. Автор насмотрелся на них вдосталь, видел он этих «умников», натерпелся от них. Они не давали ему покоя, верно, пока не были им «выписаны» на бумагу. Мальчишкой, потеряв отца, он пошёл работать. Жил трудно, голодно, а эти – вот они: посиживают вокруг складов, тихие, сытые, незаметные в своих бухгалтериях и кладовых, «умники» – и сами при деле, и детишки устроены: «тепло, светло, и мухи не кусают». И тут кульминация начинает высвечиваться и играть внутренний характер – через внешнее.
Баеву очень хочется выговориться, рассказать, вот хотя бы и этой самой Марье при всей ма́лой величине её для Баева: какой он умный, прозорливый, удачливый, а ведь никто до сих пор так и не заметил, не оценил его!.. Да теперь уже, пожалуй, и не заметит никогда. Сам он жил невидимкой, не спорил, на глаза не лез, «не залупа́лся», как сказал автор про такого же – в другом своём рассказе.
Что же он делал, этот Баев? Тут следует послушать автора: «Баев всю свою жизнь проторчал в конторе: то в сельсовете, то в заготпушни́не, то в колхозном правлении – всё кидал и кидал эти кругляшки на счётах, – наверное, с целый дом накидал», – не без намёка шутит Шукшин (дом себе отстроил этак, кидая и откидывая в сторону для себя). А сколько честных работяг в жизни маялись, трудно жили «без угла», без дома, по общежитиям да в примака́х – хоть и работали, «пахали», уж верно, почище этого Баева. И где же правда?.. «Он любил спокойных мужиков», – пишет Шукшин об одном из своих героев, любил их – это тотчас видно – и сам автор, вот баевых не жаловал.
«Баевская» же обида на весь белый свет говорит о многом. А «простецкая» исповедь Баева – и того больше. И, если знать жизнь деревни того времени (от чего бросает в дрожь), – то и вовсе о многом сокрытом расскажет, что за «фрукт» этот тихоня-бухгалтер. Бабушка моя по матери, Пелагея Тимофеевна, с двумя детьми на руках одна, как раз об это самое время баевского бухгалтерства, вдовствовала. Умирала с голоду – но вынуждена была сдавать молоко государству. Да и собеседница Баева Марья – и она знает тяжкий труд в колхозе не понаслышке, говорит прямо и просто: «Да оно бы и все-то так посиживали – в тепле да в почёте». – «Садись! – воскликнул с сердцем Баев. – Что ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай».
И тут рассказ «Беседы при ясной луне» начинает (тень и свет по-шукшински) распадаться как бы на два плана: Баеву, «тепло» прожившему жизнь, надо рассказать, какой он значительный – уже потому, что жить старался он всегда незаметно и – не зря повторяет автор – «не высовывался». Людям свойственно говорить о себе. Почему бы вот и ему, Баеву, заимевшему (накидавшему этакие хоромы на счётах-круглешах) хороший дом, вырастившему двух дочерей, сына – и это в трудное-то, совсем голодное время – отчего ж ему и не погордиться? Вот он и ходит к Марье выговориться, благо есть – вот он, его, Баева, «состоявшегося» – пример неоспори́мый. Да и читатели многие знают таких учителей по жизни. А Марья – слушает, даже кивает и поддакивает. И тогда Баев «раскручивает» себя сам (как теперь модно говорить теперь, «пиарится»). В самом деле, когда всё уже позади, можно и «высунуться». Все его «умные» поступки, конторские дела говорят о том, как он заискивал перед начальством, как обманывал сельчан с одной-единственной целью: устроиться самому, устроить детей – это один план, рассчитанный, если не ошибаюсь, на известного рода читателей (свет?). Тут и все подробности: советовал начальству, как объегорить сельских жителей с госпоставками молока, занижая жи́рность и требуя поднять объём этого самого сдаваемого крестьянами для государства «мле́ка» в ущерб собственным детям. И кому, как не ему, Баеву, было не знать, что сдают жители его деревни последнее, порой отнимая у голодных ребятишек. Ясно, что от выполненных госпоставок хорошо было не только колхозному начальству, но и умному Баеву. Он учил Марью, как «надо от работы отталкиваться»; словом, среди умных умник, «он редкого ума человек». Никто даже из колхозного начальства до этого не додумался!..
В рассказе, по этому первому его плану, собрано, кажется, всё, чтобы читателя заинтересовать, задержать: и старые анекдоты про сбор пота идут в ход (пробирку под мышку – и накрыться матрацами), и «анализы», и упрощённое отношение к молодёжи: «дрыгать научились»… И, в конце концов, мелкая трусливая душонка отчётливо – вот она! – открылась. И – весь Баев перед нами, и уже недвусмысленно понятен. Спрятавшись за спину старухи (тень?) (как он и прожил, скрываясь за бабьими, да вдовьими, да сиротскими спинами всю свою жизнь): «Стреляй! – тихо крикнул Баев Марье. – Стреляй! Через окно прямо!» А сам, мужик, в стороне: «Стреляй, Марья!» И ведь выстрели старуха по его подсказке в парня-алкоголика, пришедшего с похмелья и перепутавшего день с ночью, убей она или рань его – старуху засудили бы. Засудили бы её – а Баев, конечно, давал бы показания. И опять он наверху, ни при чём. Такой умник!.. И мог бы после процесса над старухой отряхнуться и сказать себе, повторить вновь, как и говорил не раз мысленно: «Молодец, и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили». Тут надо ещё и то понимать, как подбирает автор фамилии, неспроста или по случаю. Вот и «Баев» – от слова «баять», «заговаривать», забалтывать. Кот такой, «баюн»… Или – Неверов. В другом рассказе – Ненароков, Бронька Пупков, Сразов, или Сураз (от старого «суразный»), или вот – Ванька Тепляшин…
«Ночи стояли дивные», – пишет Шукшин, – как и всё дивно в этом мире Божьем, в его Промысле о нас, грешных, но мы-то каковы? «Мы – баевы…», «Эх, мы… Это в таком-то мире…» И этот укор отчётливо слышен читателю. И тут сама профессия актёра-Шукшина озаряет строчки, играет в повествовании: всё видишь, как в кино: жесты, мимику, движенье – и это тоже одна из редких особенностей его прозы. Хочется и смеяться, и не думать о главном. Но главное всё равно находит читателя, западает в душу, не даёт покоя – и долго потом прорастает, оживает, не отпускает: «Как же мы живём!..»
Смею утверждать, что именно для этого, для второго плана и написаны рассказы и сценарии Шукшина. Морализаторством, прямым показом и резонёрством «высоколобого» советского читателя, «физика и лирика» и тогда было не пронять. Но у Василия Макаровича почему-то увидели только «развлеку́ху», «чу́диков» – главного не увидели. Или не хотели увидеть. Не уютно было тогда видеть – всё это «по существу», саму суть свою, – да и сегодня, по большей части – некому и незачем. Читают прозу, вообще любую, в наше время (по статистике) только четыре процента населения, а тогда читали – едва ли девять десятых. Михаил Шолохов сказал о нём, о Шукшине: «Он появился удивительно вовремя».
Какова же скрытая идея многих его рассказов – и разбираемых, и существующих, но не затронутых здесь в качестве примера? В них всегда есть нечто главное – по сути человеческого бытия, по смыслу человеческого существования. Василий Макарович Шукшин, его «лирический герой», как принято называть повествование «от автора» – он не «Баев», скорее «антибаев». Рассказать нам, повеселить или удивить своим талантом, знанием народа и народца, покрасоваться – словом, «просиять», как сиял, когда поведал, передоверяя рассказ о своих «подвигах» Марье старик Баев – это не всё, не сама цель. Цель автора – не удивить (и тем подняться в наших глазах), а показать сокровенное – через внешнее… Но все ли видели, чувствовали «второй план», сокрытый – при жизни Шукшина? Обидно, что тогда его ценили до горечи мало, притом что писали о нём нередко (чаще – равнодушно, скучно или с укором и осуждением за «приземлённость», «мелкотемье», «поверхностность»…).
Марья знала Баева и до этих бесед. И далее узнаём, что умного, хитрого ловкача Баева отчего-то мучила бессонница: «Последнее время, – читаем мы, – Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать». И вот тут «сверхзадача»: все эти «почему» поставлены едва ли не во всей прозе В.М. Шукшина.
Я выбрал три рассказа. Можно бы разобрать и другие: и «На кладбище», и «Страдания молодого Ваганова», и «Как помирал старик». Везде присутствует этот второй план, это «почему». Надо сказать, ни одна философия мира не разгадала причины той самой тревоги и бессонницы вроде бы беспричинных, этого вечного вопроса о муках уже при жизни, мытарствах мятущейся души человеческой. Сам автор находил этот религиозный вопрос в весьма заурядном – и тот же вопрос, о смысле жизни, нравственности, совести – терзал его даже накануне его собственной гибели (рассказ «Кляуза»). Немногие пытаются касаться «вопроса» больного, «решать» хотя бы по-своему, для себя эту головоломку особенно даже сегодня. Вместо этого, важнейшего: «постмодерн», развлекуха, «время убить чтивом». А ведь его, времени, и так немного.
В рассказе «Выбираю деревню на жительство» некто «Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил»… «Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче.
И он пошёл по складскому делу – стал кладовщиком, и всю жизнь кладовщиком был, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию». И тут тип уже знакомый, родственный Баеву, со схожим характером. Философия жизни его не идёт дальше обывательского мировоззрения: «ушёл из деревни и понял…». Канва первого плана в общих чертах уже ясна: воровал, «ни разу не поймали его, ни один из этих, с университетским значком». Тоже, как и Баев, устроился сам: квартира, дети живут отдельно, он – со старухой. Но рассказчик не был бы так талантлив и самобытен, если б не ставил исподволь всё тот же вечный вопрос, (тени и света) разрешения которому нет ни у главного героя, ни у автора пока ещё – ни у кого. «Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить». И всё же пытался. Как же? А вот как: выпивал стаканчик – и ехал на вокзал. Почему именно на вокзал, и с кем он там разговаривал? С мужиками, как ему казалось, проще говорить, лучше поймут. Надо выговориться, выкинуть из сердца всё, что волнует. В конце концов, и узнать жизнь современной ему деревни: что изменилось? – мысленно сравнить её с той, прежней, которую помнил, цену которой знал на свой лад. Много надо было узнать хорошо пристроившемуся в городе кладовщику… а для того нужно было завязать живой разговор – всё об одном, всё о том же: кругом в городе хамство, воровство, ложь. Пива не доливают, и прочее.
И тут надо бы Николаю Григорьевичу переоценить все ценности и в себе самом: «Сам тоже ругался вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это всё как-то вдруг забылось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют». И вновь канва рассказа не сверкает – её надо разглядеть, увидеть. Пьющий в одиночку человек настораживает. Мы их редко видим. Не у всех у них, но у многих, чаще всего, есть некая боль и желание выговориться. У этих пьющих в одиночку, часто и благополучных внешне – внутренне всё не так уж хорошо: что-то происходит в душе человека, разлад какой-то, противоречие. «Никуда Николай Григорьевич не собирался уезжать». То, как он жил, живёт, и будет жить дальше – ясно по прочтении рассказа. Ну, сходил и сходил к проезжавшим мужикам на вокзал, чего уж там, чего не бывает. Поговорил раз, другой, третий, потрепался в этом закуренном и заплёванном туалете – и будет уже!.. А он всё ходил и ходил, и это стало потребностью: «Он теперь не мог без этого». Тайна души… И здесь неясность: зачем?
Попытка выявить тайну души человеческой через его, человека, поступки (повторю ещё раз, отмечая важным) – вот второй план – суть многих замыслов Шукшина, своеобразие его таланта. Много ли сегодня таких находок, которые ставили бы вопросы?.. Задача писателя – ставить вопросы. Отвечать или не отвечать на них – каждый решает по-своему. Возможен ли сегодня Николай Григорьевич? Станет ли кто-нибудь бить себя в грудь, разговаривать с этаким Николаем Григорьевичем? Нет! И не только в туалете, а и вообще где бы то ни было. Есть ли сегодня, остались ли такие вот разговорчивые мужики? Не знаю, весьма сомневаюсь. Время, то́ время – ушло безвозвратно, народ стал ещё жёстче, ещё недоверчивей, непримиримей, что ли. Хоть кажется порой, что вот – и церкви пооткрывали… Но не хватает церквей. И вопрос вопросов опять-таки: почему с ним, с Николаем Григорьевичем, нынче не станут говорить незнакомые люди, объяснять, сочувствовать и понимать?.. Не прошло и сорока лет со дня написания рассказа, а ведь тогда и говорили, и понимали.
…Рассказ «Билетик на второй сеанс» своим заглавием говорит о многом. Жизнь прожита не так, как хотелось бы главному герою рассказа, Тимофею Худякову. Ему «…опостылело всё на свете. Так бы вот встал на четвереньки и закричал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы». Как, знакомо?! Сколько сегодня тех, у которых «всё есть» – и не только «отдельные секции», а и яхты, и «БМВ», и «Инфинити»… – их тысячи, у них полный достаток. И не сравнить их по достатку с этим самым времён «развитого социализма» Худяковым – а жизни нет: «Пил со сторожем, у себя на складе…» Пил и изливал всю боль сторожу Ермолаю, жаловался – да так, как понял и смог сказать только Шукшин: «Судьба – сучка, – и дальше сложно: – Чтоб у ней голова не качалась… Чтоб сухари в сумке не мялись…» Этот эксклюзивный, как сказали бы сегодня, чисто авторский стиль Шукшина – неподража́ем. И сегодня пьют с «излиянием души». Не только на складах, а – пьют и плачут. Даже и сильные мира сего. Даже на борту роскошной яхты, как говорят журналисты, – эти «сильные мира сего», взявшие много на себя, себе – пили и плакали порой, даже прыгали с борта неглиже, чтобы охладиться отвлечься «от причин души», – не помогло. Лучше, легче не становится. Почему? И вот здесь – тайна. И Тимофеев таких немало. Удивляет не персонаж – он в общих чертах уже знаком. Монолог случился, а не диалог. Почему? А что глупому сторожу Ермолаю скажешь? Поймёт ли он, как накипело, как она, жизнь, внешне одарив – обидела! Беспощадно! Как она не состоялась! А могла бы состояться. Но в каком случае? Вот откуда начинаются догадки.
Дело, кажется, даже не в подлинности чувства, выраженного в забористом монологе – дело в средствах раскрытия характера, подлинно русского, мятущегося… А с чего ему беспокойно, невыносимо так – и сам не поймёт он, этот Худяков. Вот краешек-частица русской души – и где, в какой литературе какой страны найдёшь этакое страдание без видимой причины? И тут Шукшин – продолжатель национальных традиций: в рассказах-открытиях характеров, судеб, со всеми их изъянами-ошибками. Оттого и получила такой резонанс его «Калина красная», этот «зов души», зов к со-чувствию, что отмечал в «той ещё, дореволюционной литературе» и Лев Толстой. Боль эта, повторяю, характерна, пожалуй, только для русского, и понятна одному только русскому. Голос этот не заставляет, не обрекает – только будит, мучает и требует проснуться. Откуда эта тоска? «А что, Антоныч, – вдруг спросил весёлый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно?» – «Какая же скука?» – неохотно отвечал Панов. – «А мне другой раз так скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». – «Вишь ты!.. – сказал Панов. – Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня, думаю: дай, пьян нарежусь» (Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). Но дело не только и не столько в скуке, понятно.
У Шукшина сторож Ермолай притворялся, что не понимал кладовщика Худякова – но, верно, знал, думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал. И не попался ни разу, паразит!»
«Разлад, Ермоха… Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего». – «Пройдёт». – «Не проходило».
И все эти разные «кающиеся» – ищут слушателя, совершают поступки непредсказуемые: таково их внутреннее состояние. Домой ему, кладовщику, идти не хочется, «там тоже тоска, ещё хуже: жена начнет нудить». Погода тоже под стать настроению. Автор даёт броские, яркие, краткие и оригинальные детали: «Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным жёлтым огнём. Холодно, тоскливо. И как-то противно-ясно…» Всё ясно и читателю. Без обиняков, горько и ясно. Тимофей шёл и раздумывал. О чём? Всё о том же: «Вот – жил, подошёл к концу». «А Ермоха, – сравнивал Тимофей, – например, всю жизнь прожил ва́ликом – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы». Ермолай завидует нищему по сравнению с ним. Странно? Завидует спокойствию, с которым тот прожил, возможности его, Ермолая, собой заниматься, своей душой, любимыми делами, не размениваться на… И пошёл он к Поле Тепля-шиной, с которой «крутили» когда-то преступную любовь. Но там, как говорят, от ворот поворот. По́ля даже удивилась: «Вона! Вот так гость. Зачем это?» И пить отказалась с ним она, давняя приятельница, и разговор получился нехороший: укоряли друг друга, сва́ра… Тимофей заключил: «Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак всё в жизни – и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе – ему с кривинкой сойдёт, с гнильцой…» Вот что он говорит в лицо ей, бывшей возлюбленной, – так жмёт и жжёт в груди его восставшая, мучающая душа. И откуда эта боль, не понять никак. А боль духовная, не душевная даже, а духовная. Как её руганью с людьми да водкой унять – нет, никак невозможно…
Всё это характерно для рассказов и вообще для творчества Шукшина. Читателю кажется, что эта боль его персонажей – от их ненасытности, от зависти, от многих неисполненных запросов и ожиданий, от жизни. Так нет, ясно и вот что: имей герой в сто, в тысячи раз больше, чем он имеет, – боль не ушла бы, даже возросла бы с удвоенной, утроенной силой. Вот, сегодня гремят на курортах грандиозные попойки детей этих кладовщиков, плоть от плоти, и чиновников, бывших «парте́йных», их пляски нагишом на яхтах и даже крейсерах (на знаменитой «Авроре»)… И – новый кризис, и выкупы ими, детьми кладовщиков, знаменитых изделий Фаберже и икон («чёрных досок», как они называют иконы), а толку – пшик. Деньги сберегли, «вложили», а душа всё равно болит, требует чего-то иного, кроме скандала и славы денежной. Неясно, глухо болит – как вылечить?