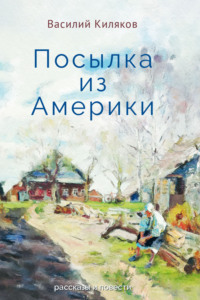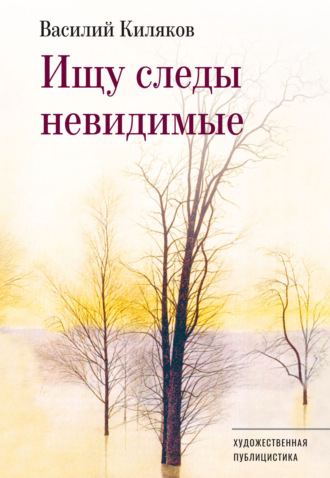
Полная версия
Ищу следы невидимые
[…] самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький… 30 лет скоро! Пора! Жду… Все мы ждём…»[7].
И здесь, в письме к брату, мы видим прежде всего всяческое «бегание» даже и молодого ещё А.П. Чехова – страстей. Страсти, по святым отцам – суть бесы. Чтобы с увлечением писать 500 страниц (роман) на одну тему, необходима и́стая страстность души. Чехов-писатель – вечный холостяк, и даже женившись, всем бытием своим он уходил от привязанностей, жил в одиночестве в Ялте, ибо видел в привязанности несвободу. Не здесь ли подлинно ключ к пониманию короткого дыхания его – А.П. – эпически такого непростого, сложного и «сла́женного» из коротких рассказов и из небольших повестей: высшая ценность – для него в обуздании себя самого. «Победа из побед – победа над собой», – говорят и повторяют верные Русской православной церкви, и весьма точно. Вот и его, А.П., представление, вернее, одна из важнейших черт его характера, и которые он видел и у людей воспитанных: «Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. …Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» Или: «Я разменялся на мелкую монету!»…, потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили».
Сравним эти строки (по внутренней убеждённости) со строками того же Бабеля, Куприна, Гиляровского (хотя бы). И что же мы получим? Тихое пристанище и сокровенную душу.
У него с охотой бывали многие писатели, даже опять-таки саркастичный и «всё ещё ядовитый» (как он сам о себе говорил) И.А. Бунин. Чехов, говоривший «низким грудным голосом», – весь и всегда в себе, в работе, чужд позы и всего показного, внешнего. Он был всю жизнь несчастлив, но не искал ни «счастия», ни «бурь среди лазури». Опасался даже известности, как фальши. О модернистах, о том же «экспрессионисте» Л. Андрееве отзывался со смехом так: «Прочитаю две страницы, нужно час гулять по свежему воздуху» (Бунин И.А. Очерк «Чехов»). И всё же некая недосказанность – мощным подтекстом – чувствуется и в прозе его, и в драматургии (особенно), и в самой жизни, в бытовании его в среде актёров, писателей и читающей публики. Недоговорённость о многом и многом – та самая недосказанность, которая могла бы вылиться в роман… Кажется порой, что и невозможность договорить так, чтобы все услышали, – тоже беспокоила его до конца дней. (И с возрастом, конечно, ещё острее, чем в начале творческого пути). Все пьесы его основаны на этой самой недосказанности, недоговорённости, – все они на полутонах, на «доживании» с автором за пределами сцен.
…Есть пословица: «сто белых кроликов никогда не составят одной белой лошади». Применима ли эта пословица к литературной работе? Составят ли сто рассказов по значимости общей – один роман?
Или всё так же «непоправимо» и здесь, и – сто прекрасных рассказов сами по себе никогда не дотянут до хорошего романа? А между тем известно, что написать рассказ – необходима высшая степень мастерства. Тут писатель весь открыт, мастерство прозрачно. В рассказе – не скроешь своей внутренней сути – и ни за словеса, ни за фразу, ни за мудрование не спрячешься.
Известно, что А.П. несколько раз приступал к форме крупной, предполагал большие формы к написанию, но больной кровохарканием, мучаясь от болезни лёгких, так и не осуществил мечты. Быть может, попросту не успел. Ради «большой формы» – (всё же) он решился на поездку на остров Сахалин (и не отменил путешествие даже накануне рецидива наследственно укоренённой хворо́бы). И всё – единственно только из-за мечты-тоски по роману. Как ни уговаривали его отречься от задуманного и заявленного им «романа о Сахалине», он не отступал. Был уверен, что привезёт из поездки именно произведение большой формы, роман. И не один роман. Сколько собрано было материала, сколько карточек-биографий будущих персонажей скопил он там, на острове, по биографиям каторжников.
«Писателя ставит роман» – известная формулировка. И доро́га редких больших писателей: принято думать – настоящий роман, крупная цель. Рассказать о страданиях и любви, да так убедительно, чтобы изжить эти страдания (хоть частью в себе самом). Таковы Лев Толстой и Достоевский, таковы Куприн и Короленко. Цель их – не только «очеловечить» современников, смягчить их нравы, но прежде всего – попытка победить себя.
Эпическая форма, размах романа, который охватил бы несколько поколений «на срез века девятнадцатого», когда многое зрело в социальной среде, в переменчивых людях было в зародыше, – так, казалось, подходили для написания романа. Надеялся Чехов найти там, на Сахалине, множество характеров, биографий, тщательно оформить наблюдения, которые питали бы в дальнейшем его творчество, – на полвека вперед, по меньшей мере. (И «Записки из Мёртвого дома» были и примером, и порукой тому). И так ясно, и понятно нам теперь, что и тут без влияния Достоевского не обошлось.
То, что «писателя ставит роман», – и сегодня заученно повторяют. Но так ли всё однозначно на деле? Почему так легко приняли, согласились, смирились и с этой спорной «истиной» априори многие литературоведы? У Хемингуэя «Старик и море» – непревзойденная «нобелевская» работа – но не роман. «Жизнь Арсеньева» Бунина – тоже «нобелевская», но роман ли? Конечно, нет. Крепкий рассказ или повесть (скорее уж его повесть «Деревня» – роман). Хороший рассказ порою сто́ит целого романа. Как говаривал царь Пётр своим гренадёрам перед кулачным боем с английскими матросами в портах, когда очередного англичанина-нокаутера, обладавшего хитрым ударом головой, уносили на носилках после встречного удара мощной длани русского гренадёра-панчера (повторял царь-Пётр английским шкиперам): «Русский кулак стои́ т английского лба». То же и в литературе: хороший русский рассказ стоит и английского, и американского романа.
…Считается, что роман как жанр зародился в Англии в 1750-х. Называют создателя романа – Аббата Жакена («Беседа о романах»). Да и то – так ли? Много разногласий. Американцы отстаивают своё первенство. Известно, что за рубежом нет жанровых различий между понятием «повесть», а так: всё, что по объёму более рассказа, – всё «романы». С точки зрения западного критика – Чехов, конечно же, и романист тоже. Но существовал и античный роман, отличие его было не по форме как таковой, а по силе воздействия воплощённого в нём «материала».
Ф.М. Достоевский записки о каторжанах вылил в огромные формы, поражающие воображение. Чехов – нимало. И всё же автор «с коротким дыханием» велик не только как рассказчик и драматург.
…Кровохарканием (чахоткой) он страдал особенно остро в самую плодотворную свою пору – с двадцати шести – двадцати восьми лет. Сохранились рассказы-свидетельства И.С. Шмелёва о том, какие опасные формы принимала болезнь, даже и тёплым летом, на безобидной рыбалке. Выуживая карасей, Чехов, завзятый рыбак, красный от крови платок время от времени подносил ко рту. И вот – Сахалин, да ещё и в пору рецидива хронической чахотки… путешествие через всю Россию – с ящиком-чемоданом с рукописями и писчими приборами, с бумагой и предметами для писаний, – который тиранил его всю дорогу (по его поздним признаниям, «чемодан без ручек»).
Что заставило двинуться в столь дальний путь, какова предтеча поездки? Откуда этакая безрассудная смелость и риск дальнего пути через всю Сибирь больного неизлечимо «наследственной» болезнью врача, знавшего свои горизонты и перспективы? И вот беру самый длинный из неоконченных его романов, и это, конечно, в первую очередь «Степь». «Быть может, найду ответ?» – думается…
…Есть утверждения (А. Турков и другие), что на творчество Чехова огромное влияние имел Л.Н. Толстой. «Счастье», «Огни», «Именины», «Скучная история» и другие рассказы – написаны будто бы прямо под непосредственным влиянием Льва Николаевича. Роман «Степь», переписанный в дальнейшем как «История одной поездки», занимает особое место. Быть может, и здесь дань «простому» в своём размахе таланту Льва Николаевича? Нечто подобное «Холстомеру» хотелось создать Чехову, по аналогии – «…истории одной лошади»?.. Наверное, быть может, и так, даже скорее всего – что так. Но разве «и только»?
Чехов, получив в 1888 году премию Пушкинской Академии наук, отправляется на Сахалин. Результатом этой опасной и труднейшей поездки стала замечательная, не оцененная до сих пор по достоинству книга очерков «Остров Сахалин» (1893–1894 гг.). Он старательно вырезает карточки с описанием внешности, характеров каторжан, плотно и мелким почерком заполняет записные книжки. А романа как не было, так и нет. «Степь» – не о Сахалине. Разнообразие характеров, их столкновения в «Степи», в дальней дороге… Сам Чехов… – а уж и сам он – не тот же ли самый Егорушка, не тот ли подросток что устал немыслимо долго и ехать, и ждать подарка от унылого путешествия (и устал описывать эту поездку); устал восхищаться величием природы – и дивиться мелким, странным потугам своих спутников: стать счастливыми. А подарка ему как не было, так и нет…
Они – все действующие лица повести – то поссорятся, то помирятся, и тем – обозначат себя вдруг в конфликте, неожиданно раскроются. Взять первое место на стогу сена, с самого верху… съесть первую ложку наваристой каши… Что не дописано, не договорено, то – оборвалось на полуслове, на полунамёке – полутон, полутень. И чувствуешь недоговорённость о сути этой дальней поездки по «Степи-России». И недоговорённость, повторяю, – эта недосказанность только усиливает (в образах) восприятие. Чувствуешь в начале «романа» некую притчу, слышишь эзопов язык. Это важно, очень важно: здесь не «дураки и дороги» и не «Мёртвые души» – нечто иное, совсем, совсем другое здесь. И ещё: что заставляет восхищаться и радоваться, в том числе и тончайшему лиризму повести-романа, хвалённого разными авторами от М.Е. Салтыкова-Щедрина до В.М. Гаршина и другими, это – надежда исканий… Надежда… А что изменилось в этой са́мой «степи» сегодня (более чем через сто лет после написания)? И что изменилось вообще в русской жизни с тех времён, когда жил Антон Павлович? Рассудим не только по воспоминаниям пристального наблюдателя И.А. Бунина – по строкам всё того же мастерски написанного им (позднего очерка) «Чехов», а и проследим по судьбам многих «героев» чеховских рассказов. Устами своих действующих лиц в пьесах и в прозе он сам – мечтал: «Какая это будет жизнь! Через сто лет!»…
Трагизм несбывшихся ожиданий… Эхо со многими отголосками повторяет и сегодня: «…а через сто лет…» – ох уж эти радужные и розовые мечты. (Надежды неизлечимо больного чахоткой человека, чувствовавшего свои «срочные сроки»)… И здесь малая форма писателя – как подобие жизни и игры Шопена, который тоже был болен чахоткой и в промежутках выступлений в концертных залах едва-едва переводил дух от приступов удушья: вбегал в зал, гениально играл свою партию и убегал за кулисы с окрашенным кровью платком, задыхаясь и корчась от боли (но всё-таки за кулисами, подальше от зрителя-слушателя). Так он играл, Фредерик Шопен, и так поспешно подхватывался и убегал, чтобы не огорчать публику, чтобы никто ничего не заподозрил. А не то же ли – и А.П. Чехов? (У обоих «короткое дыхание», и обоим не до романа, не до «симфоний»).
…Нынешней зимой, в январе месяце, проходя мимо платформы станции «Клязьма», что в Подмосковье, я присмотрелся к связкам книг, вывезенным на помойку. Я и раньше видел книги и журналы, выкидываемые связками, охапками, а тут не удержался, подошёл – так стало жаль лежащей беззащитно книги, словно подбитой влёт птицы (со смятой обложкой-крылом лежала она, «навзничь», одна из не связанных бечевой, выпавшая из охапки «макулатуры» из классических собраний сочинений). И та книга, что сверху, оказалась как раз… повестью «Степь», и тут же, с ней же – «комедия в четырёх действиях «Вишнёвый сад». Повесть эта принадлежит ко времени издания знаменитых чеховских «Сумерек». А случилась эта моя находка ровно через сто тридцать лет после выхода в свет книги, прижизненного чеховского издания. (Вот тебе и «сто лет», которые с таким волнением прорекли и оптимист Чехов, и скептик и во многом циник, по воспоминаниям современников, И.А. Бунин). Далеко за сто лет прошло, с четвертью даже, а человек – всё тот же, каким был, тем же и остался и ныне, едва ли хуже не стал, чем был. (Да ещё и с андроидом или айфоном в руках теперь, со «жвачкой» в зубах – тот, да и не тот будто бы). Так, видел я однажды (в Мелихово) несколько афиш чеховских спектаклей, того ещё, дореволюционного времени. Одна из них рекламировала миниатюры по рассказам «Злоумышленник», «Хирургия» – одноактные постановки силами заключённых Таганской тюрьмы – и завершала постановку… игра на… виолончели. Можно ли сегодня представить себе нечто подобное? Постановку пьес по классикам для заключённых и… игру для них на виолончели… Немыслимо. Сегодня «актёры» пропагандируют не классику в театре и не музыку, а некоторые сами стали подлинно «детьми Франкенштейна»: бегают неглиже по сцене Большого театра, да не где-нибудь, а в самой Москве Белокаменной. И в Москве же, в Третьяковке на вернисаж вынесли недавно впереди икон… – унитаз – и сообщили всем, что это нечто особенное, – перформанс называется. И это будто бы и есть всё то же хвалёное «актуальное искусство»… Без такого «искусства» (точнее сказать – ядовитого искуса) сегодня точно – и никуда́, и никак! Такой гротеск не снился в самых дурных снах ни Гоголю, ни Булгакову, ни даже нашему жизнелюбу Чехову. Нет, всё-таки Антон Павлович был неисправимым мечтателем. Да и было, верно, было на что опереться его мечте: «игра на виолончели». (Станиславский, Качалов – это и порода, и образование, и культура. Они – не Шнур, не Серебренников с Богомоловым. И казне российской обходились классики не в такую цену, как теперь обходятся названные нынешние «гении» от сцены и эстрады, эти не подсудные отчего-то никому и никак, многие нынешние подмостки театральные, те, что на содержании народа, – сегодня несравнимо дороже. И «режиссёры» такого атриум-пошиба, и актёры, и «чтецы» всяческие). Взглянешь – и уже по фотографии видишь, кто есть кто́: XXI – не золотой уже, не серебряный, а – поистине каменный век настал. Век заточения в казематы русской национальной культуры.
Бытие само, особенно в последнее время, научило относиться внимательно к любому событию, которого касаешься непосредственно, и если не находишь хоть какой-то скрытый смысл, находишь непременно и «второе дно» в происходящем, – то волей-неволей вынужден предполагать потаённые мутные глубины. И понятно, что миновать такой находки – трогательного события, собрания сочинений Чехова, книг, выброшенных в мусорный контейнер, обойти раскиданные книги вокруг помойки каким-то то ли Челкашом, то ли Шариковым, – я конечно не смог. Единственным из возможного показалось – вернуться со связкой томов домой. Так я и сделал. Поехал в Москву на другой поздней электричке, с большим перерывом, но уже со «Степью» Чехова в руках. Словно кто-то «сверху» протянул мне эту книгу, заставил внимательно перечитать – впервые после обязательного «школьного» изучения. Обременённый уже грехами, опытом, годами – по-иному и видишь, по-другому чувствуешь, по-своему читаешь «прочитанное» прежде.
…Подле меня в электричке поместился уверенного вида детина: он широко и важно из несессера, будто энциклопедию, достал планшет и открыл плеер, установил игру в «Доту», вставил штекер, пристроил наушники – и был таков из мира Божьего. В его движениях увиделся некий вызов окружающей действительности, протест всему сущему, – и прежде всего мне самому, и этому веку, и Чехову, книгу которого я держал в руках. Попробовал было я тогда потеснить геймера, «переквалифицировать» этого акселерата, как сказал бы Василий Макарович Шукшин, «потянуть одеяло на себя», то есть сесть повольнее – да махнул рукой: «не до него», – и сам углубился в чтение.
…До обидных морщин на лице – поражает «плоскоэкранное мышление» сегодняшних «не-читателей», а «игрателей», этих «смотрителей» «теле» и «дивиди», видео, ютуб-компьютерных игр и всевозможных приставок. «В поле бес нас, видно, водит и кружит по сторонам», – вспоминалось мне. «Книга и экран… Бес и ангел» – нет, мне уж точно не к вам, ребята, мне – к Чехову, пожалуйста. И именно к книге бумажной, а не в электронный балаган ширпотреба. Не случайно же телеящик ставят зачастую в «красный угол» – туда, где место иконам, фотографиям ушедших родителей, по старинному русскому не минувшему пока ещё обычаю. Нет, уж точно «не моё», эти игры… Всё-таки Дух правит миром, а не TV с рогатой антенной, не премудрый экран и цифра «от Лейбница». С «двоичным кодом» её, который и лёг в основу программ всех компьютеров.
…Сосед мой засопел, словно услышал мысли мои, набычился вдруг, распустил локти пошире – этак «раскрылился» по-вороньи. Пойманные в игре «стринги счастья» его и «кольцо нибелунгов», видимо, не обрадовали его. И вот уже нахрапом своим – он тут же напомнил мне одного из первых «бомбистов», небезызвестного убийцу Кравчинского-Степняка, взявшего псевдоним именно «Степняк». И почему «Степняк»? Откуда такой интерес к степи от «народовольцев»? Столько написано уже об этой степи и былин, и песен, и повестей, и рассказов. Поистине, «все дороги ведут» если не в Рим, то к Чехову. И донецкие степи известны сегодня. Известия оттуда приходят с трагическим постоянством. Горькие новости – ежедневно: и стрельба, и разрывы фугасов, и выжженные хлеба… Убийцы-революционеры, даже и те, которые видели и в самом приволье степном нечто своё, созвучное себе, это пространство распростёртое, где сокрыться возможно после террора, – и сегодня они не «остранены»́, не переосмыслены, малопонятны. Отчего же такой интерес многочисленных характеров и прототипов – от писателей до убийц – к этой русской обширной степной равнине? Впрочем, теперь – конечно наверняка уж был бы и не «Степняк» вовсе, а «Бэтман прерий» или «Человек-Суслик», наверное. Или «Аватар», или «Рокки Бальбоа»: своё мы уже не в силах продуцировать, способны лишь повторять постыдно других. А ведь в Японии, например, именно Чехов занимает первое место по востребованности среди зарубежных писателей. Оно и понятно: тот, кто с юности читатель, тот, взрослея, становится мыслителем, изобретателем, руководителем. Япония, надо признать, шагнула далеко вперёд и благодаря чтению, тоже. Миром по-прежнему правит книга, «кодекс» по латыни. С древних – времён главное – остаётся незыблемо, несокрушимо, не меняется. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана…»
…Откуда пришли, откуда явились они, эти «Скитальцы», «Горькие», «Бедные», «Весёлые» – все эти дивные «экземпляры», и писатели тоже… Эти эксцентричные авторы двадцатых годов двадцатого века, те, которые пытались потрясти классику? «Неќ то в помятой шляпе» – называл одного из них, самого известного, И.А. Бунин – того, который за словом в карман не лез (назвал он так «Пешкова-Горького»). Все те́, коим имя, данное Богом и при крещении, заменили или клички, или прилагательное-определение, те, которые казались ему, дворянину, получившему хорошее воспитание, – непостижимо вульгарными, смешными, и подело́м. Прилагательное – к несуществующему существительному – кличка, зачем эта дикость, эти приставки вместо имени (псевдонимы, не похожие на фамилии)? Часто – и вовсе нелепые бродяжьи прозвища, плохо придуманные не псевдонимы даже, а амплуа… И – как точно разглядел великий Ф.М. Достоевский – не благостное житие через сто лет в России, как мечталось Чехову, – а «бесов» и бесенят: верховенских, смердяковых, любящих, по их собственному признанию, не Россию, а… «остроумие». Разглядел классик зорко их отвязанность, способность на поступок самый дерзкий, неожиданный – откусить палец, взорвать бомбу – такое действо, на которое, по совести, мало кто мог решиться в чеховские времена. В те времена, когда именно в тюрьмах (не напоказ), а для собственного утешения и смягчения нравов, играли (всё-таки) под занавес спектаклей… напомню ещё раз: «на виолончели». А до него, до Достоевского, разглядел их, нигилистов (хотя и вывел в сочувственном повествовании) – Тургенев и ещё – конечно, Лесков. И стало мне вдруг обидно за А.П. Чехова, что и сам я как бы спасова́л перед широко рассевшимся на лавке толстяком с планшетом, тоже «степняком» по виду: показалось, до обидного часто живописатели русской жизни явно проигрывали в знании действительности, приукрашивали её, жалели всех этих игроков и таких вот жуирующих пижонов, как мой сосед. Я опёрся попрочней, собрался, напрягся, да и так двинул плечом моего «толстого вор́ она», что – тот от удивления едва не выронил планшет из рук и уставился на меня, будто только что меня увидел. Молча открыл я тогда книгу, «отжал» ещё раз обомлевшего от удивления толстяка поплотнее к окну, чтобы не зас́ тил он свет, и принялся читать.
…Итак, повесть «Степь» впервые появилась в мартовской книжке журнала «Северный вестник» в 1888 году. До этой повести Чеховым были написаны сборники коротких рассказов: «Пёстрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди». Чехова-новеллиста ценили и Н.С. Лесков, и Д.В. Григорович, и Я.П. Полонский. К 1888 году относится и первое знакомство его с Львом Толстым: «Что за человек! Застенчивый как девушка!» – признавался Лев Николаевич Софье Андреевне. Быть может, от Толстого и услышал «Антоша Чехонте» впервые о том что погряз он, Чехов, будто бы в мелкотемье, пессимизме, о «холодной крови» будто бы своей. О том, что писательство дело серьёзное… И другие претензии и нравоучения, с которыми часто впоследствии приступали к нему зоилы-критики. «А какой же я пессимист, «холодная кровь?!» – обижался А. Чехов. (Он считал лучшим из написанного рассказ «Студент», светлый и чистый рассказ, который описывает, как студент в Страстную пятницу Великим Постом отправился в лес стрелять птичек да зверушек. Никого не убил, повстречал крестьянок, которые напомнили ему сюжет Евангелия и о том ещё, что́ совершалось на Страстной неделе в самом начале истории христианской веры, с начала летоисчисления. И к первой звезде безбожник-студент уже плакал от умиления и жалости к миру Божьему, от ощущения явного присутствия в нём Бога взыскующего).
Не исключено, что именно такой совет: писать широко, поднимать пласты – Чехов мог услышать именно от Л. Толстого, на ту пору не написавшего ещё «В чём моя вера» и «Пятое Евангелие». Толстой же с его пожеланиями, пожалуй, – и вывел его, А.П., на Сахалин. Пласты поднимать, призывать к решению мировых вопросов, а точнее – романы ваять.
Жизнь… Каторжане. Кровохаркание… Дорога на перекладных туда и обратно, и в снег, и в дождь, с ногами, укрытыми медвежьей полостью. Эта отчаянная смелость скромного, умного человека кажется необъяснимой теперь. По нынешним временам – сущее безрассудство: проехать на лошадях под пологом вдоль и наискосок всю Россию-матушку, до самого океана… Четыре тысячи миль. Во имя чего?
Чехов-врач не обманывался на счёт своего здоровья. Он, по свидетельству Ольги Книппер-Чеховой, и в последние часы своей жизни признавался: предугадывал, чем грозило ему это многомесячное путешествие. Геройство? Характер. Личность. В последние минуты жизни попросил шампанского: «Давно я не пил шампанского». И на немецком: «Ich sterbe…» – так и молвил он лечащему врачу-немцу. Предупредил ещё, что не нужно лишних хлопот, ведь и сам он врач практикующий, и ясны ему перспективы его здоровья вполне… Фрегат вернулся в гавань из хождения по морям-океанам. По-библейски: остановился ворот у колодца, и развязался узел сердца. Звезда Чехова вспыхнула на небосклоне вечно живых классиков.
И всё же писать роман, события которого начинаются не на острове в Охотском море и океане, а в степи, и водить (по этой степи) мальчика Егорушку и отправлять в большую жизнь, в гимназию, а затем – в кадетский корпус, в офицерство – эта идея была ёмкая, непростая, сходная по размаху с «Мёртвыми душами», и оказалась ближе. Начать же было решено просто с описания характера ребёнка, всего того, что его окружает. Даже и целая степная энциклопедия, так удавшаяся автору, не исчерпывала таланта, редкого по сердечности, по умению наблюдать – детским проницательным взглядом. Способность и дивное наитие, интуиция при отборе деталей… Чехов нашёл верную дорогу, вполне достойную, чутким даром своим, одарённостью. О долгой-долгой дороге своего предшественника Н.В. Гоголя он сказал так: «В нашей литературе он степной царь, – записал Чехов. И далее: – Чувствовал всю сложность работы после «Мёртвых душ»».
Над рукописью Чехов работал тщательно и позволил себе редкое признание: «Удалась она или нет, не знаю. Но, во всяком случае – она мой шедевр, лучше сделать не умею» (письмо А.С. Лазареву (Грузинскому) 4 февраля 1888 года). Слово «шедевр» Чехов употребил со свойственным ему юмором, не впадая в самовосхваление, имея в виду кропотливый труд, вложенный в прозаическую и такую прозрачную «вещь» (как принято называть новый труд у писателей).