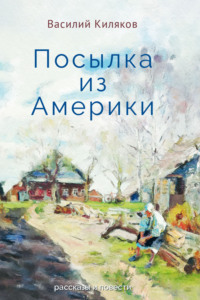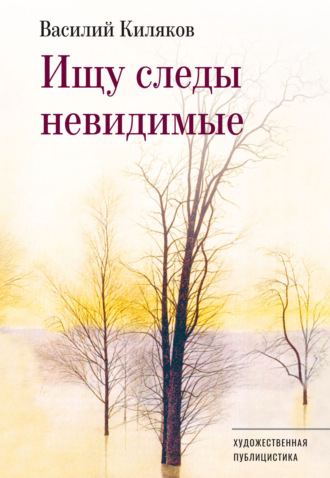
Полная версия
Ищу следы невидимые
И при всём сказанном – удивительно: не все его студенты разделяли его убеждения. Даже не так: разделяли – но не многие, как я теперь понимаю, верно оценивали только избранные. Не всё бывало гладко и в преподавании. Произносились, слышались порой и провокационные реплики от студентов-кретинов. И как же было стыдно за вопрошающих, за эти вопросы-ремарки «с подтекстом»! И жаль было его, когда он отвечал им, порой смущённо (на нелепый вопрос от «младо-либерала», ученика), но всегда – пояснял взвешенно, доходчиво, корректно, явно жалея самолюбие вопрошавшего, которого и самого за бестактный его вопрос мы, молодые тогда и жадные до истины, могли поднять на смех всей аудиторией. Понятно, Лобанов мог так ответить – отбрить так, что только держись. Но нет, не уничтожал, не унижал, и понятно, ведь тогда осмеянный собеседник-ученик был бы взбешён, затаил бы ярость и носил бы камень за пазухой. Михаил Петрович вообще никогда не довлел, никого не давил, «не нависал», не навязывал своего мнения. Каждый шёл своим путём…
Никогда не было и любимчиков у него, как и нелюбимых. Его, будто бы, упрекают порой в антисемитизме. Это от незнания самой лобановской сути и мирови́дения его. У нас на семинаре учился шесть лет Игорь Кецельман, приезжал из подмосковного города Пушкино. И ни разу не было сказано ничего обидного, что смутило или задело бы его хоть мало-мальски. Только раз Кецельман что-то «заподозрил», да и то – нашёл с чьей-то лукавой подачи, верно, – с домыслов неких подозрительных юнцов безусых – упрёк в адрес корневого русского писателя, прошедшего войну, – нечто в давней полемической периодике 1970-х годов, а вовсе не в обсуждении, не на нашем семинаре. Игорь благополучно окончил Литинститут, защитился уверенно качественно созданными рассказами о московском зоопарке, где работал по окончании биофака института. Впоследствии печатался в журнале «Октябрь», в журнале «Подъём», в других журналах. Мы были дружны с Игорем, и это только один из многих, которого я знал. А сколько прошло таких ребят за его, Лобанова, более чем полувековой стаж преподавания…
«За всю жизнь мне так и не пришлось встретить человека, который с таким чутким вниманием, граничащим с отцовской любовью, относился бы к творчеству своих подопечных. Для него все мы, невзирая на лица и возраст, национальность, убеждения и на меру таланта, были учениками, его студентами, по-родственному близкими, за которых – и это ощущал каждый – он нёс какую-то высшую ответственность, своим собственным примером являя нам исполнение нравственного закона. В то безбожное, полное политического лицемерия время он был для нас евангельским самарянином, который врачевал наши души, возливая на немощи наши «вино и елей» мудрости и любви», – прочитал недавно я в журнале «Славянка» (2018, № 1) эти слова выпускника семинара Михаила Петровича 1980-х годов Сергея Тимченко из его статьи «Лобановская твердь» – предисловия главного редактора к открывавшейся в журнале новой рубрике «Лобановские чтения». Именно! Как это верно! М.П. нёс какую-то высшую ответственность, всем примером своим являя исполнение «нравственного закона» – как это точно сказано. Мудрость и такт Лобанова были как будто не от мира сего.
А вот как свидетельствует об этой высшей ответственности наставника еще один выпускник Литинститута тех же 80-х годов, ныне протоиерей, известный писатель Владимир Чугунов, а тогда вольнослушатель, посещавший семинары Лобанова (о чём он рассказал подробно, в частности, в своём недавнем романе «Причастие». – См.: Чугунов В.А. Причастие, роман. Нижний Новгород, изд-во «Родное пепелище», 2017). Он вспоминает поразительный факт – историю, связанную с церковностью их, студентов (во времена государственного атеизма), тех, которых Михаил Петрович буквально спас от отчисления: «Хождение в церковь чуть не обернулась нашей троице исключением из Литинститута. Как узнал позже, по просьбе М. П. Лобанова он (ректор Литинститута В. К. Егоров – В.К.) обратился к своим бывшим коллегам из ЦК ВЛКСМ, те к коллегам из КГБ и кампанию прекратили, а уж казалось бы, всё» (Владимир Чугунов. «Преодоление неофитствующего максимализма» // Литературная Россия. 04.04.2014). Ещё одним из этой «троицы», добавим, был вышеназванный лобановский «семинарист» Геннадий Рязанцев, ныне – протоиерей (см. об этом: Рязанцев-Седогин Г.Н. «Приметы памяти сердечной» // Литературная газета. 2017, № 1–2. С. 8; В Божественном молчании. М., 2017. С. 139–152).
…И вот – Екшур, и Дом культуры в его родовом селе, наконец-то признание. Неужели что-то меняется? Неужели мы выбираемся, выходим, выдираем ноги из этого (более тридцати лет) сдерживающего нас болота невежества и халтуры? И как всё-таки поздно. Но попытки выдраться были и раньше. Я знаю, что сам Президент поздравил его, Михаила Петровича, с девяностолетием. А, прислав поздравительное письмо, сразу после этого – вылетел в Екатеринбург открывать «Ельцин-центр»… Да, ещё и «награда» к этому юбилею (при полном молчании официозных СМИ) – русскому писателю, фронтовику-орденоносцу – казённый чайный сервиз с гербами. И это при том, что орденами «За заслуги перед Отечеством» награждали гитаристов, открыто исповедовавших «дзен-буддизм», и атеиста, который собирал барыши в свой карман со сцены опять-таки под гитарку и всё «искал свою синюю птицу удачи», награждали и автора блатняка тем же орденом… Поразительно. А М.П. Лобанов, фронтовик, инвалид войны, преподаватель, профессор, автор многих книг, и каких книг, не достоин правительственной награды? (Знаю, пылился сей дар «данайцев» у него за городом и по сей день не распакован, ожидает решения своей участи, в лучшем случае – отправки в будущий краеведческий музей на родине М.П. Лобанова)…
Из замечаний к последней книге Лобанова «Убеждение»: «Меня, фронтовика, участника битвы на Курской дуге, могли поддержать на склоне лет, как это делают для своих ветеранов-шестидесятников, либералов <…> Ко мне же никакого внимания; написанные мною за последние 9 лет 10 книг (в том числе главные для меня – «Твердыня духа» и «В шесть часов вечера каждый вторник») не были отмечены ни одной премией» (правительственной). – Вот как сказал о. Фёдор, монах Свято-Троицкого Александра-Свирского мужского монастыря, молитвенник Русской Православной Церкви, старец теперь, а в прошлом – выпускник Лобанова писатель Юрий Пономарёв, духовная связь с которым сохранялась десятилетия до самого ухода учителя «в мир иной»: «Горько было слышать, что смерть, уход из земной жизни выдающегося русского писателя и мыслителя, фронтовика-орденоносца была обозначена тенденциозным замалчиванием, глушением бесстыдным его имени официозными СМИ (которые в то же самое время демонстрировали, как президент обнимал, поздравлял с каким-то юбилеем некого комика). Как будто можно вырезать из истории России имя одного из лучших, самых верных её сынов». «Слово об учителе, наставнике, друге», воспоминания монаха о. Феодора о Лобанове дорогого стоят, а переписка-разговор их, верующих православных писателей, двух недюжинных умов и характеров, была опубликована в книгах М.П. и озаглавлена так: «Дорогой отец Феодор!». «Приеду из Екшура, обязательно перечитаю, – думал я, – так тонко о самом насущном, существенном мало кто сказал…»
…Тайна жизни всякого человека «велика есть». А тайна Михаила Петровича Лобанова – втройне. Всё пытаюсь найти, объяснить себе, в чём кроется тайна его? В тяжкой ли боли от болезней, в последствиях военного ранения? В старчестве ли его… Или в тяжёлых муках и размышлениях о будущем России, развале СССР, который он переживал тяжелее всякой болезни, даже страшнее мучившего его всю жизнь, так и не залеченного до полного выздоровления туберкулёза. Откуда ему этот дар и это наказание – боль русской души за весь род людской, и за свой народ в особенности? Это «Мужество человечности» (по названию одной из первых его книг). Эти мука и благодать, ему посланные несомненно свыше, как они нашли именно его? Что это, избранничество?.. За трудно и тяжело прожитую жизнь, за ту тоску вселенского одиночества – и в молодости, когда «не было сил пройти от стены до стены» в съёмной ростовской квартирке, – дистанция длиною в долгую-долгую жизнь. И – вдруг озарение Благодати, как признавался он: «нестерпимая любовь, жалость и нежность» посетили. Отсюда – и «Твердыня духа», отсюда – и «В сражении и любви», и его «Страницы памятного»…
Добавить хочется, конечно, ещё о «мужестве человечности» его, как я попробовал сказать прежде в этой статье, – о нравственной стойкости, духовной крепости его, без которых боль его всегдашняя русская не стала бы деянием, деятельной жизненной позицией…
Бессребреник, избранник Божий – именно через страдания. Его сила, его корневая система любви и веры помогли ему вынести то, нестерпимое порой, что творилось и со страной, и с отдельными людьми. Выдержать то, чего иные и не поняли, и не приняли, и не смогли бы понести. Или – протерпели бы, как терпит растение или животное… Он «переплавил» в духовное – боль свою и жажду счастья родине. Цель литературы, по его словам, цель писательства и смысл писательства – за бытом отыскать Бытиё. То, ради чего стоит жить.
И вот – четверть века после той пресловутой «перестройки»… Сколько труда, чтобы учеников вытащить и образовать. Не «образованцами» отпустить в жизнь, не «просвещёнными мещанами», а людьми вполне определившимися – «со стержнем». Скольких он вывел словно из-под огня, как из фронтового окружения, сохранив и знамя, славу и честь. Сколько их было, спасённых им душ, за пятьдесят один год его преподавания в Литинституте. Из того страшного времени «озверения», из кольца воинствующей пошлости, из кольца кричащего материализма он вывел нас за плечи, под руки. Никто не сел «на ки́чу», не попал на зону (даже в то время), никто не опозорился как бессовестный рвач (по крайней мере, я не знаю таких примеров). А кто не научился писать – и тот не пропал, получил от него страховку и опору. Порукой тому – одно из последних его интервью с крепким и недвусмысленным названием: «Наш народ попал в талмудистскую западню» (газета «Русский вестник», № 5 за 2015 год – отрывок из большого интервью выдающегося писателя). Поистине, «ума холодные размышления и сердца горестные заметы».
…Иногда живу так, как жил он. Точнее, пробую так жить, чтобы не было бы стыдно и впоследствии никогда за свои поступки. Пытаюсь видеть и слышать его – «за» и «по ту сторону» жизни земной, которая вся (повторю ещё раз слово апостола) – проходит как «сквозь тусклое стекло, гадательно». Пытаюсь отыскивать следы невидимые уже в мире этом и нахожу мир (невидимый, сокровенный, который значительней видимого, если говорить словом Лобанова), как умел видеть только он. Пытаюсь направить взор в даль духовную, чтобы годы радовало содеянное, – чтобы, совершив тот или иной поступок в жизни или в убогом писании своём, противостоять преградам – «внутренним и внешним» (напомню, что именно так и называется одна из его книг: «Внутреннее и внешнее», где он утверждает, что духовное очевиднее внешнего, видимого этого мира «данного нам в ощущении») – пытаюсь жить, сопротивляясь конформизму, плесени бытийной, духовной лени, искусам, через которые суждено пройти каждому из нас, и в большом и в малом. И думается тогда: если здесь и сейчас я поступлю именно так, а не иначе, то – одобрил бы меня Лобанов?
…И как же трудно жить вразрез с компромиссами!.. Тогда и не жизнь мирская уже – а подлинно Предстояние, служение начинается, самая, похоже, окопная, земляная правда под высоким небом, под звёздами озаряет до дрожи, как сигнальные ракеты над минным полем… И нет укрытия ни от одной мысли, ни от одного деяния, ни от одного движения души «вхолостую». Весь ты тогда – на сквозняке, на ветру, на морозе. Очень непросто жить так, даже если – только временами спохватываешься. В этом вечном движении и кружении жизни забываешь и отпускаешь момент (так монах порой забывает о чётках). И сложно, как же архисложно жить не минутными потребностями, а – вечностью, дыханием вечности. Если сравнить – то единственно со стоянием в морозную ночь на камне, когда «молишься, молишься, молишься»… Не отпускают обязанности, привязанности, долги, дела. А как же он? А он?.. А он – жил так всегда.
2020–2021
«Украденный» Чехов, или обещанного двести лет ждут
О Чехове, и не только
Тончайший, чуткий, деликатный, необычайно работоспособный – все эти эпитеты применимы к А.П. Чехову, и, конечно, сопутствуют ему и в жизни, и в литературе. А пошлость – он не переносил органически, ни в какой форме, ни бытийно, ни «книжно». Жёсткая цензура и отбор – присущи Чехову как никакому другому писателю. И при всём при том – какая трудоспособность: более полутысячи коротких рассказов, которые настолько разносторонни, всеохватны и разнотемьем не уступают лучшим образцам классических глубоких романов. Пьесы, очерки и зарисовки, письма и дневники… Быть простым, лаконичным и в то же время и щедрым, и отзывчивым – сложно необыкновенно. Антон Павлович в этом отношении – пример редчайший.
Сколько и иных лестных прилагательных можно подобрать для А.П., присущих именно ему и только ему. Изящество его, чуткость и даже нежность – всё это отмечал особой метой даже наблюдательный, нередко язвительный И.А. Бунин. А.И. Куприн «…к любви и нежной печали» обратил читателя в очерке «Памяти Чехова» (воспоминания). «Неутолимая тоска» об ушедшем писателе редчайших даров, ироничном и сердечном одновременно сквозит в этих воспоминаниях отнюдь не сентиментального жилистого силача.
А начинал А.П. с шуточных заметок, с пустяков, с юмора – того самого юмора, который искромётно редок. Начинал легко и напряжённо, много работая. Кормил семью с гонораров, как мог. И псевдонимы: «Антоша Чехонте», а до того: «Брат моего брата», «Человек без селезёнки» (видимо, по присловию, что-де – так уж смешно, что, читая и смеясь, и селезёнку порвёшь). «Юный старец», «Антип Индейкин» и прочие, и прочие. Да и названия журналов, в которых он начал печататься не менее забористые: «Стрекоза», «Зритель», «Будильник», «Мирской толк». Первая книга его вышла в 1884 году и называлась «Сказки Мельпомены». Удивительно, как из того мелкотемья, на которое он был, казалось бы, обречён, Чехов перерос к прозе с подтекстами. Их домысливаешь не то что часами или днями, а – и годы даже…
Удивляет, когда слышишь, что (будто бы) общеизвестно и стало даже общим местом, что Чехов не состоялся как романист. В вину нельзя ему поставить и этого «не состоялся», а по каким, собственно, меркам он не романист? И весь очерк, начатый с этих строк о творчестве упомянутого писателя, – посвящается обоснованию: можно ли и впрямь на деле согласиться с таким спорным утверждением.
Сам писатель с сожалением неоднократно отмечал этот «недостаток», некую неполноценность свою как художника и драматурга и именно в таком ключе и с грустью даже в беседах с литераторами. У А.П. было, если так можно сказать, «прерывистое дыхание». Он так умел отделывать свои рассказы и повести, пьесы, доводил до совершенства форму так, что если прочитал единожды, вряд ли забудешь «Иону» или «Студента», или «Дуэ́ль» – их невозможно пересказать, и всё же кроме общих замечаний и впечатлений выносишь и многое иное. Они как бы даже вовсе бессюжетны, как (например) многие поздние «Стихотворения в прозе» – у того же И.С. Тургенева. Но влияние этих шедевров на душу читателя невозможно переоценить. И – ещё «одинокость» А.П., – и она тоже только от великого сердца. Не одиночество, а именно одинокость умного и доброго, «погружённого» в страдания, сочувствие ближнему – человека видишь отчётливо прежде всего. Сострадательное начало, самое острое и деятельное, – мешало, скорее всего, «замахнуться на большую форму». Так ли это, мы не знаем и не узнаем теперь никогда. Чахотка, и при ней горькая ирония стоика и трагика, знающего цену жизни, – это ли в добавление ко всему сказанному прежде не позволяло доделать, довершить начатые ранее романы…
В большом по объёму, и это не секрет, произведении – приходится многое додумывать на ходу и по-хорошему, по-писательски «врать». (Правда искусства в романе важнее правды жизни. Писатель в своём романе создаёт свой собственный мир и для того, чтобы книга была интересной, принуждает и даже навязывает своё мировоззрение. Чехов был органически ненавязчив). Романист – образчик романиста всегда противоречив. Например: отяжелевший от постоянной и безвылазной работы Оноре де Бальзак, ценивший своё «де Бальзак» необыкновенно, до болезненности. «Де» – которого добивался и добился только под занавес самой жизни. Он, «Оноре де», вечно и тщательно прятавший свою роскошь от кредиторов и в пятьдесят влюбившийся без памяти в Ганскую, – вот пример истого «романиста». Романист и Гюстав Флобер, страдающий до сердечных болей от …страха облысеть, и мятущийся Горький…
Романист – это (в лучшем случае) страстный игрок «по жизни», даже и такого уровня, как Ф.М. Достоевский, не раз женившийся, всегда тревожный до предела. Романист – и М.А. Шолохов, который всегда был в первых рядах самого существа бытия и происходящего вокруг – и в продразвёрстках, и в агитации, и в собраниях писателей, и по охоте на дроф. И Л.Н. Толстой, и А.Н. Толстой – романисты, без сомнения.
Причуды писателей-романистов связаны с состоянием их душ. Романисты – едва ли не все без исключений жизнелюбы, желавшие жить долго и (главное) много иметь в смысле материальном. Вспомним: таковы и всё тот же А.Н. Толстой («красный граф»), и А.И. Куприн… Романиста отличают величайшие страсти, ёмкие желания и безудержность, ненасытность. Романист – точно конденсатор переменного тока в цепи, он много накапливает энергии и много выбрасывает… Чехов – совсем иное дело. Вот что написал он, тогда ещё двадцатишестилетний, брату Николаю, а по сути – напомнил всем нам, грешным, о вечном. И тут главное увидеть, почувствовать бесстрастие. И даже и нам, а, быть может, и нам особенно: на примере его слов – научиться независимости от страстей, и это ключевое понимание творчества писателя. Читать нам и не перечитать, и помнить бы всегда письмо-завещание…
Вот оно: «Маленький Забелин![5]Мне передавали, что ты оскорблён моими и шехтелевскими насмешками… Способность оскорбляться есть достояние только душ благородных, но, тем не менее, если можно смеяться над Иваненко, надо мной, над Мишкой, над Неллей, то почему же нельзя смеяться над тобой? Это несправедливо… Впрочем, если ты не шутишь и в самом деле чувствуешь себя оскорблённым, то спешу извиниться. Смеются только над тем, что смешно, или чего не понимают… Выбирай любое из двух. Второе, конечно, более лестно, но – увы! – для меня лично ты не составляешь загадки. Нетрудно понять человека, с которым делил сладость татарских шапок, Вучины, латыни и, наконец, московского жития. И к тому же твоя жизнь есть нечто такое психологически несложное, что понятна даже не бывшим в семинарии.
Буду из уважения к тебе откровенен. Ты сердишься, оскорблён… но дело не в насмешках и не в благодушно болтающем Долгове… Дело в том, что ты сам, как порядочный человек, чувствуешь себя на ложной почве; а кто мнит себя виноватым, тот всегда ищет себе оправдание извне: пьяница ссылается на горе, Путята на цензуру, убегающий с Якиманки ради блуда – ссылается на холод в зале, на насмешки и проч. Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканьи и проч. Это естественно и извинительно. Такова уж натура человеческая. А что ты чувствуешь себя на ложной почве, это тоже верно, иначе бы я не называл тебя порядочным человеком. Пропадёт порядочность – ну, тогда другое дело: помиришься и перестанешь чувствовать ложь…
Что ты для меня не составляешь загадки, что бываешь иногда варварски смешон, тоже верно. Ведь ты простой смертный, а все мы, смертные, загадочны только тогда, когда глупы и смешны в течение 48 недель в году… не правда ли?
Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались… Жаловался только Христос, но Тот говорил не о Своём «я», а о Своём учении… Тебя отлично понимают… Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других…
Уверяю тебя, что, как брат и близкий тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую… Все твои хорошие качества я знаю, как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, незлопамятен, доверчив… Ты одарён свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 000 000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается.
Недостаток же у тебя только один. В нём и твоя ложная почва, и твоё горе, и твой катар кишок. Это – твоя крайняя невоспитанность. Извини пожалуйста, но veritas magis amicitiae[6].
Дело в том, что жизнь имеет свои условия… Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным… Талант занёс тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но… тебя тянет от неё, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами vis-a-vis. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах у рейнского погреба, на подачках. Победить её трудно, ужасно трудно.
Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:
1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних…
2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Пётр знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и наплюёт на водку. Они ночей не спят, чтобы помогать Полеваевым, платить за братьев-студентов, одевать мать.
3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.
5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету! Я […]!..», потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво…
6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства со знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако, восторг встречного в Salon’e, известность по портерным… Они смеются над фразой: «Я представитель печати!», которая к лицу только Родзевичам и Левенбергам. Делая на грош, они не носятся с своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили… Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки… Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную…
7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… Они горды своим талантом. Так, они не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы…
8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот, […] не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали… Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не […], а матерью… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только когда свободны, при случае… Ибо им нужен mens sana in corpore sano («в здоровом теле здоровый дух». – В.К.).
И т. д. Таковы воспитанные… Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить монолог из Фауста. Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда… Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час… Поездки на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть… Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать… хотя бы Тургенева, которого ты не читал…