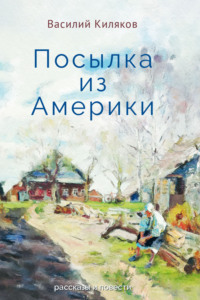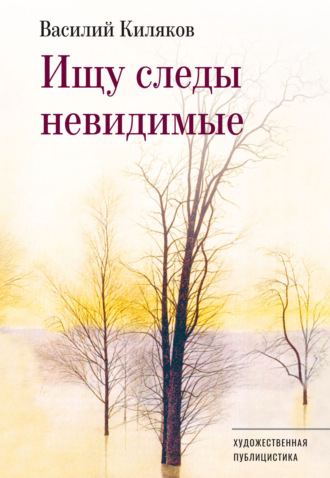
Полная версия
Ищу следы невидимые
…Лобанов выслушивал нас внимательно. Он знал, что в августе 1992-го радиостанцией «Немецкая волна» за участие в литературном конкурсе, объявленном «Дойче Велле» в газете «Труд», я был приглашён в Германию и два месяца учился немецкому языку в «Гёте-институте». Учился у «носителей языка», осваивал немецкие акценты, так сказать. Такая была объявлена мне «награда» за победу в номинации международного конкурса в жанре «радиорассказ». И вот этот интересный подход немцев: обучить лауреата-писателя своему языку, показать свою культуру русскому молодому писателю, ошеломить достатком и сытостью в сравнении с дефицитом бывшего Союза и тем «перевербовать» в свою пользу – был ясен ему, фронтовику. Это же не просто посыл, тут всё с дальним прицелом: влюбить в себя, очаровать, быть может, и проводником своих немецких идей сделать… Сытостью, удобством, довольством немецким приголубить. Вот-де: что там тебе твоя Россия, киндер-писатель! – голодная прихожая Европы. Вот, смотри, как надо жить – и разумей: «гросс-бир», свиные сосиски, и прочее. Угодливые «мензы» на каждом шагу. Такие «акценты» – я и сам сразу уловил. О них же говорил и «великий» – в понимании немцев – Ханс Магнус Энцербергер на нашем совместном выступлении в «Гёте-центре». (Вот откуда пошли и наши «Ельцин-центр, «Центр зарубежья», «Сахаров-центр», «Гоголь-центр»… – от лакеев-подражателей Европе). Они увидели, эти подражатели, лакированную поверхность западной культуры – и поверили навскидку, сразу. Таковы эти самые «акценты». А мы и свой-то язык на уроках в школах и вузах сокращаем и сжимаем до предела. Так сжимается бумага в костре пожарища всероссийского, зато английский вводят повсеместно. Может быть, мы уже завоёваны, мы оккупированы, страна-победитель нацизма?
«…Как же ты выдержал там два месяца совсем один, – спросил Лобанов при первой встрече. – Я и двух недель там не прожил бы, в этом «погружении в чужбину»»… – И попал в самую точку. Пришлось признаться, как я был поражён обилием пищи и вещей, особенно в западной части Германии. Обилием совершенно не нужным, излишеством, которое некуда деть. Сорок пар носков одного размера и всяческой раскраски. В то же время в нашей стране крупа была по карточкам, по два кило в руки, мыло – по куску в месяц. Водка и табак только у спекулянтов с шестизначными астрономическими ценниками… а там – сияющие бронзовым и золотым отливом здания, блистающие машины на промытых с шампунем шоссе. …Я поделился наблюдением, что при всей их сытости… глаза у них пустые, как пластмассовые пуговицы на пальто. Улыбки – натянутые. Доброжелательность – явно фальшивая. Попроси реально чем-то помочь при видимом участии, да вот хотя бы и дать на билет десять марок, и последует недоумение, улыбка слетает с лица, проверено личным опытом. И потому, признался, я так соскучился по родине, так скучал, что нашёл в парке уголок на Хайденберг-штрассе, островок России с берёзкой и небом. Снимал ботинки и садился босиком на траву у берёзки, чтобы не было видно небоскрёбов, чтобы сердце отошло…
Ах, Рязань, Рязань моя, ах, моя Вятка… Как же я заболел ностальгией! Эта ностальгия, как оказалось, тяжелее всех болезней, даже и с COVID-19 вместе взятых… Я купил приёмник и держал его под подушкой. Частушки Трухиной на средних волнах приёмника, через треск и заунывные шумы – единственно и лечили меня от тоски, помогали хотя бы заснуть.
Никогда не забыть и взгляд, с которым он слушал. Он был чуток к людям, а к ученикам – в особенности. И это тот человек, который нашёл и выбрал для учёбы в своём мастер-классе даже и Виктора Пелевина… Разве это не демократизм, в отсутствии которого его смели упрекать и яковлевы, и присные им «яковлевцы»? Подлинный, честный демократизм, внутренняя свобода. Казалось бы, что у них общего? Дар учителя – не утилитарного отнюдь человека. «Демократичного консерватора» (как сказал кто-то из студентов). В его «духовных теплицах» росли и согревались всякие, даже самые причудливые и необычные цветы, лишь бы жила теплица среди мороза. Пусть и погаршински с «Attalea princeps», с заокеанской пальмой-Пелевиным, например, лишь был бы плод… Думаю, даже уверен, что мы увидели бы и совсем иного Пелевина, настоящего, а не проект «АСТ» – если б он доучился у Лобанова, если бы не был отчислен – нашли бы автора ярче, содержательней, глубже, и знали бы его теперь как настоящего писателя, а – не полемиста, не «поп-артовца», спорщика с действительностью, пишущего «про отрезанные ноги в лётных училищах» и про «пустоту». Нет сомнений: тех, кто выучился у Лобанова, нельзя пробежать так, как читают сегодня изготовителей легковесных литературных изделий. Прочитал, скоротал время (пусть и не без первичного интереса порой). Закрыл книгу, и – тотчас забыл. Лобановское носишь годами, десятилетиями, переосмысливаешь, передумываешь.
…И ещё о Германии. Надежда Середина, студентка из Воронежа, рассказывала мне в тех же 1990-х, как она сидела с правкой повести в его квартире на Юго-Западе Москвы. Вдруг – звонок в дверь: «Помощь гуманитарная». Девица из соцзащиты уже предчувствовала радость, которую она внесёт и в эту квартиру очередного фронтовика. Начала выкладывать с улыбкой кормилицы соевое масло в двухлитровой жестяной банке, галеты, сухое молоко в огромной блестящей упаковке:
– Это от немцев.
– От кого? – не сразу понял, уточнил Лобанов.
– От немцев, говорю. Помощь благотворительная, – со снисхождением к наивному удивлению этого пожилого человека отвечала разносчица.
– Вот немцам и отнесите всё это, – был ответ.
…Вспоминал я, радуясь за Екшур, за получивший имя Лобанова ДК, и припоминал милые сердцу встречи с ним на праздниках. Он, как я помню, праздновал лишь День Победы да тезоименитство, именины – день памяти святого Михаила Архангела (Святой Михаил Архангел – Архистратиг, Глава святого воинства Ангелов и Архангелов). И праздновали мы чаще всего не день рождения учителя 17 ноября, а – тот же ноябрь, но 21 числа. Он гордился своим именем и причастностью (по имени) Архангелу Михаилу. «Всю нечистую силу сверг мой святой», – сказал он негромко однажды. И сколько же цветов, сколько радости, фотографий и пожеланий было на таких встречах! Как теперь вижу: стаканчик из пластика в его руке, в стаканчике шампанское. Лучистый взгляд небесно-голубых его глаз. И эти полстаканчика игристого он пил час – и не допивал, скромно ставил на стол, принимая цветы охапками от вновь и вновь приходящих. Тех, кто давным-давно окончил Литинститут, не забыл навестить его в заветной аудитории № 11. И как он радовался, протягивал по-персидски руки навстречу: «О-о, Василий, Александр! Мои дорогие!..»
Скромен был удивительно. Никаких подношений не терпел, не брал. Однажды один из нас, дипломников, «просачковал» и не принёс к сроку преддипломную работу, что было обязательным. Тогда он, студент, догадался сделать так: чтобы не осрамиться перед учителем, купил дорогой японский кассетник-магнитофон, записал беседу трёх старух в электричке, переписал-переложил от руки их диалог и напечатал на машинке всё то, что «стенографировал», чуть подредактировал – и принёс Михаилу Петровичу, пытаясь выдать подделку за «эксклюзив». Я никогда не видел прежде учителя таким рассерженным. «Что это? – спрашивал он, возмущаясь. – Это что?» – «Повесть», – робея, отвечал студент. – «У вас защита на носу, а вы приносите мне запись какого-то обывательского партсобрания!..» Тогда студент не нашёл ничего лучше, как предложить: «Михаил Петрович, а можно я вам свой дорогой кассетник принесу? Чудо, что за магнитофон! Настоящий японец!..» Взрыв ещё большего негодования потряс стены аудитории: «Конечно, несите, да поторапливайтесь! Несите ваш магнитофон. Но в бумаге, в виде хорошей повести или – рассказами! Вот ещё, выдумал… Магнитофон!..»
Однажды был я свидетелем, как заочники, собравшись во вторник, разложили ужин. Сухую колбасу, хлеб… Удивительно совпало. Все работали и учились заочно. Один привёз горячие батоны из пекарни на Новослободской. Другой – колбасу сухую черкизовскую (он работал там в охране, на Черкизовском мясном заводе). Третий – молоко лианозовское… Пир горой. Я с удовольствием кусал, ломал, резал и жевал с моими гостеприимными друзьями. Михаил Петрович, в очках, лицом к нам, просматривал рассказы и повести к предстоящему обсуждению. Снедь была до того вкусна, что я не удержался, нарезал бутерброд, налил чаю из термоса, принёс и поставил перед ним. Он молча посмотрел на меня поверх очков и вновь углубился в чтение… Ребята поняли мой жест доброй воли по-своему. И вот уже угощением был заставлен первый стол для учителя, и мы с радостью ждали похвалы. Как же, поделиться – первое дело! Не тому ли учили нас наши родители с младых ногтей? Не тому ли са́мому и он учил нас всегда? Каково же было наше удивление, когда, дочитав рукописи, глядя пристально нам в лица, он несколько рассерженно и деловито сказал: «Так, всё? Всех присутствующих переписать в журнал. И убрать всё это! Какое-то паломничество, честное слово!..»
Это его точное: «паломничество» – никогда не забыть. За ним надо было записывать, ходить с карандашом и блокнотом. Я однажды так шутя и сказал ему. «Вам, как Гёте, своего Эккермана-секретаря надо бы. Вы греете этот мир высказываниями, как грел бы зиму огонь при открытой печи». – «Вот уж чего я не хотел бы, Василий, так это – испортить кому-нибудь жизнь обожанием своей персоны, как Гёте испортил жизнь Иоганну Эккерману. Запретил ему жениться, запретил, по сути, саму свободу и даже сам мир Божий! Ради себя, любимого, ради гениальности своей… Так мнить о себе – позорно. Будь ты даже Гёте».
До сих пор повторяют: «диссидент Окуджава», «диссидент Вознесенский», Евтушенко, Ахмадулина… И Василий Аксёнов – тоже «диссидент». Какие же это диссиденты, – в золотых пелёнках прожившие? Из-за границ не вылезали! Лобанов – я вижу – вот кто настоящий «диссидент»! Но, во-первых – он настоящий русский патриот. Никогда не был антисоветским диссидентом, обласканным Западом (как не был обласкан, к примеру, и знаменитый священник, духовный писатель о. Дмитрий Дудко).
Уже в поздние советские годы за правду об испытаниях, выпавших на долю русского народа, о голоде 1933 года, на него, на Лобанова, обрушился гнев дорастающего до «генсека» Ю. Андропова, потребовавшего принять специальное постановление ЦК партии, осуждающее статью Лобанова «Освобождение». За такое «диссидентство», за действительный русский патриотизм на Западе не платят ни славой, ни долларами, ни учёными званиями, ни докторскими мантиями, ни почётными лауреатствами (это хорошо чувствовала Татьяна Глушкова, говорившая о «литераторах типа М. Лобанова, которые понимали, что именно невостребованность Западом может сделать честь русскому патриоту»).
Прощение и всепрощение наше не имеет границ… Вспомнить только зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Стукалина и зав. отделом культуры Шауро – и подачу ими докладной Андропову. Вспомнить давление на Лобанова-писателя многих и многих даже очень авторитетных и влиятельных критиков и чиновников. Его тиранили хорошо устроенные замы и завы из числа тех, кто поддерживал тогдашнего председателя отдела пропаганды ЦК КПСС А.Н. Яковлева. Сколько их и сегодня, не прозревших… «Слепота!» – как-то сказал Лобанов о них. «Но слепота ли, Михаил Петрович? Может, это не глупость, а измена?» – хотелось спросить его. И он понимал, что́ это за слепота, и я смолчал: не хотел причинять ему боль…
За что били его? За ответственное напоминание всем о том, что именно здесь, в России, главное-то в мировой истории как раз и свершается. Что «Дух» и «Духовность» – не фикции, не некая безгласная субстанция, а самая насущная реальность. Докладные записки на Лобанова, как много их было в его жизни… Писали чиновники, писали и жаловались коллеги-преподаватели. Случалось, даже и «ученики» писали доносы. Как многое мы забыли, как много всего «простили» так легкодумно и доверчиво… Космополиты гнали его, русского, за русскость, при этом сами никогда не бедствовали. «Перестроились» очень быстро, почти мгновенно, и мстили патриоту, да ещё и партийному. Лобанов вступил в партию в 1954-м. И не скрывал этого, не стыдился, не жёг партбилет на телевидении. Всегда был собой, вызывая огонь на себя, – даже не на «батарею» свою, тушинскую, не на соратников и друзей, – а на самого себя прежде всего, и осознанно. Очень сожалел, что сняли главреда «Волги» Николая Палькина, где и поместил Палькин его «скандальную» статью, всю жизнь жалел. «Волга» – журнал, который стал знаменит лобановским «Освобождением». «Вишневый омут», роман Михаила Алексеева: жгут сады… И вот – его же «Драчуны». И Лобанов не может не отозваться на народную беду. Он пишет про раскулачивание. И опять накинулись!..
Проханов рассказывал, как «АНЯ» (партийная кличка А.Н. Яковлева), – приобняв однажды, пытался, картаво выкатывая слова и иронизируя по поводу убеждений, – перевербовать его, Проханова А.А., в «демократы»… Лобанову он не рискнул бы даже намекнуть про этакое, не то что предложить такую «новую» доктрину и тактику, никогда не решился бы, знал: неподкупный русак не стерпит и двух слов намеченной «перевербовки». Ответ был бы слишком очевиден, предсказуем. Лобанова с подачи Яковлева и по велению Андропова вызывали на Лубянку. Он рассказывал: «Вошёл в проходную. Сдал паспорт, получил пропуск и пошутил, сказав прапорщикам у телефона: «К вам вход копейка, выход рубль». Но кагэбэшник-комендант так взглянул на него, что шутка повисла в воздухе. Зайдя в каменный мешок, как в западню, он не верил уже, что выйдет оттуда…
«Таскали» на Лубянку и священника о. Дмитрия Дудко, который позже приходил к нам на семинары. Невысокий, необычайной крепости и фонтанирующий энергией священник. Вошёл в аудиторию второго этажа (лобановскую аудиторию) батюшка Дмитрий в широкой – «в пол» – епитрахили. Семинар в тот день первой нашей встречи длился часа четыре… О. Дмитрий пытливо и молодо переходил, почти перебегал от парты к парте к каждому студенту. Каждого спрашивал сам и отвечал на вопросы с шутками-прибаутками, отвечал экспромт-афоризмами, чем всех нас сразу и совершенно очаровал. Вразумлял нас, молодых остолопов… Реагировал мгновенно. Это в его-то годы, которые принято называть «преклонными»!
Михаил Петрович однажды рассказывал, как в конце восьмидесятых годов оказался с выпускником своего семинара Женей Булиным (ныне протоиерей отец Евгений – настоятель храма Михаила Архангела в селе Загорново в Подмосковье) и Николаем Тетеновым из США в подмосковном Черкизово, где служил в храме и проводил беседы с молодыми прихожанами священник Дмитрий Дудко. «Устали в тот день смертельно, – рассказывал Михаил Петрович. – После долгого ночного разговора лёг я на диван в небольшой комнатке батюшки, за тонкой дощатой переборкой, отделявшей нас. Так устали от переездов и выступлений, – словом, «вряд до места», как говорят рязанские, до кровати добраться бы… Проснулся вдруг от какого-то еле уловимого движения, шёпота. Отец Дмитрий подождал, пока все заснут, утомлённые заботами и хлопотами дня, встал и – тайно молится, молится, молится…»
Затем я прочитал об этом эпизоде в его книге «Твердыня духа». И здесь он уже не говорит про усталость. Сколько скромности в этом эпизоде о «недосягаемости» священника, который по рукоположению и ответственности перед Богом – не ро́вня нам, мирянам, в духовном надмирном плане. Священник, который, молясь, как бы перемещается в высшие сферы – в сферы Духа. Как непритворно уважал он сан иерейский, монашество, благоговел перед подлинным старчеством!.. И как чужд был сам всякой гордыни, превозношения. Вот эти строки – и его сосредоточенная «внутренняя» сокровенная интонация, которую, конечно, почувствует и читатель: «Уже в конце восьмидесятых годов мы втроём – выпускник Литературного института Женя Булин (ныне отец Евгений), Николай Тетенов из США, редактор журнала «Русское самосознание», и я приехали в подмосковное Черкизово, где служил в храме о. Димитрий Дудко. После вечернего Богослужения, трапезы с участием большой группы молодёжи – духовных детей батюшки – мы отправились на ночлег. Я лежал на диване, а за перегородкой стоял отец Димитрий и полушёпотом читал молитвы. Днём мы прогуливались с ним по берегу Москвы-реки, удивительно широкой здесь, разговаривали на разные мирские темы. Для меня он был Дмитрием Сергеевичем, чуть ли не коллегой по литературе. И вот теперь, слушая за перегородкой молитвы отца Димитрия, я почувствовал недосягаемость его для меня, и все наши недавние дневные разговоры были как будто с другим человеком. Было уже за полночь, глаза мои слипались, одолевал сон, я со всё меньшим вниманием прислушивался, а он всё молился, молился, молился…» («Твердыня духа», с. 940). О. Дмитрий Дудко – о М.П. Лобанове, о 60-70-х – нач. 80-х гг.: «Я Лобанова давно уже заметил по его произведениям, они мне очень нравились, были удивительно духовны. Как он всё хорошо понимал в безбожный период в нашей стране и безбоязненно обо всём говорил. Его статья «Освобождение» наделала большой переполох. Лобанова наказали. Вот они герои, а всё выставляют кого-то, кто им и в подмётки не годится. Мучаются другие, а лавры пожинает кто-то, но забывают враги, что есть Промысл Божий, есть Грозный Судия, по выражению Лермонтова: «Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не поможет вновь». Я почувствовал в Лобанове по духу сродное мне» (Священник Дмитрий Дудко. «Шторм или пристань?». М., 2001)… И вот от быта – мы, ученики – бежали к Лобанову, в духовную баню, повторюсь. Именно так. Порой жёсткую, с переменой полюсов и смыслов. Затем мгновения милосердия – зарницы. Как редко, как горестно редко радуют эти всполохи-зарницы! Приоткрывая другой мир – настоящий, подлинный, который мы, простые смертные, видим «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно».
Творческий конкурс в Литинститут в 1991-м был, к моему удивлению, пройден мной сразу на два потока: к Евгению Сидорову на критику и к Лобанову на прозу. Собеседование было последним из пяти. И решающим – мастер сам отбирал учеников.
«…Так у кого же ты желаешь учиться?» – был задан мне вопрос на этом главном и последнем экзамене-собеседовании. (По результатам творческого конкурса и этого последнего экзамена преподаватели, включая «оппонентов», пытливо присматривались к каждому абитуриенту). В ту пору литература и сами писатели были в большой цене. Писатели были интересны, ценимы, уважаемы. Они задавали тон и направление мысли. К ним прислушивались, на них настраивались. А.Б. Чаковский – даже и тот собирал огромные залы. Теперь его вряд ли кто вспомнит, а тогда… Пройдя творческий конкурс, сдав экзамены, я задумался. А подумать было о чём. Вспомнил «синтез», синтетику Евгения Сидорова и его разрекламированные дружеские связи с Евтушенко и иже с ним, книги его (какое-то многословие) от которых в душе ничего не осталось. И полнокровные, полные энергии и жизни книги Лобанова. Конечно, я мечтал печататься. И ясно было, что Сидоров (в случае поступления к нему) может открыть широкие врата в издательства. Но не станут ли эти врата «вратами адовыми» – читай «либеральными»? А Лобанов? Лобанов научит писать. И тебя не напечатают, наверное… И, конечно, ты будешь сам биться в редакции, потому что такому человеку не скажешь: помоги, устрой рукопись!..
– У Лобанова. Только у Лобанова, – ответствовал я приёмной комиссии.
«Оппоненты» Мариэтта Чудакова и Анатолий Приставкин недовольно переглянулись, заёрзали за широким столом, крытым зелёным сукном:
– А почему?
– Я хочу быть плотником, учеником плотника (я намекал на Писание).
– А столяром? – парировал Приставкин.
– Столяр – нечто иное. Не о столярном рубанке и клее речь…
И я увидел, как он, Михаил Петрович Лобанов, сидя с краю и улыбаясь, подмигивает мне, но так, чтобы никто не мог увидеть, тем глазом в проф́ иль, который обращён ко мне, с моей стороны, и так скрыто-задорно, что и мне самому стало весело. Подмигнул мне – ободрить, чтобы никто не заметил… Было в этом нечто от пушкинской шутки и от есенинского озорства. Излучалась забота отцовская от забавного подмигивания в самую нужную минуту. Теперь-то понимаю, что я (по молодости) заметно волновался перед столь представительной комиссией, в которой не знал и половины докторов наук и профессоров, и запомнил его, Лобанова, заключительные слова, сразу снявшие напряжение:
– Хороший плотник – он же и столяр. И критику не оставим, и прозу подтянем. Берём!..
Он учил, что литература – не забава, а сама жизнь. Точнее, ток этой жизни, её кровь – Литература (именно так, с большой буквы). Не игра в «сюр-» и «пост-». А поиск самого фермента – тонкое наблюдение, способность убеждать образами, которые (в отличие от журналистики) остаются на века. Литература – то, на чём воспитываются поколения, как на любимом романе «Тихий Дон». Не случайно он и перед самым своим уходом вернулся именно к этой книге. Отними у нас классику: музыку Свиридова и Рахманинова, поэзию Пушкина и Лермонтова, прозу Толстого и Достоевского – и мы нищие, не великая нация. Не оттого ли немцы и американцы рассеивают по всему миру – как клён канадский по ветру пускает семена, как борщевик – свои языковые центры, «Гёте-институты», «Американские центры», «Американские клубы образования», «Центры английского языка», «BKC-international House», «Языковой центр Cherrylane» и прочие; перековывают в свою «веру», добиваются порою не только лояльности, а через гранты – прямо-таки поклонения своей культуре?.. И здесь необходимо отметить усердие иностранцев, внимание к литераторам из России, – понимают, кто и как именно сможет повлиять на сверстников, кто привезёт впечатления и укрепит влияние их культуры на русский «общинный менталитет».
В связи с такого рода влиянием Нового и Старого света на молодёжь вспоминается, как однажды наш учитель пришёл на семинар, был чернее тучи. Из лазарета больничного он ушёл, ни у кого не спрашивая разрешения. Было так. Семинар наш, намеченный на ближайший вторник, – накануне отменили, случай – редчайший. Лобанов был во вторник всегда. Вёл семинары, что называется, «без дураков», и, приди я один или любой из нас вместо двадцати учеников, – он и для одного вёл бы урок, не отпустил бы. Два-три часа, по обыкновению своему, он вёл бы семинар по мастерству так же пристально, не считаясь со своим временем. И вот – вдруг семинар отменён, что такое!.. И случилась отмена в канун дня и ночи расстрелов октября 1993-го. Мобильных телефонов тогда не было, а оповещали студенты друг друга – по стационарным – тем примитивным, дисковым, что работали на проводе (да и те не у каждого были, «сарафанное радио» дополняло недостаток аппаратуры). И вот известие горькое: Михаил Петрович лежит в клинике с серьёзным диагнозом. Рецидив, обострение болезни поражённого лёгкого с тех ещё, давних ростовских времён, боль застарелая, хроническая… Лёгкие, альвеолы повреждены, донимает кашель, слабость. Он периодически проходил обследование, но тут открывшиеся каверны принудили к стационару. Конец сентября – снова затемнение, воспаление плевры. И вот – атака на «Белый дом» – и объявление из деканата: «Лобановцам-семинаристам срочно собраться во вторник на семинар. Непременно». Конечно, светлая радость сначала: «…значит, подлечили, значит, здоров?..».
И вот вошёл. Высокий. Голова по обыкновению чуть закинута назад, по-монашески космат, седовато-рус. Но в тот день более обычного закинута назад голова, прямая спина, что значило: он внутренне напряжён. Повесил гороховый плащик на вешалку в аудитории. «Все собрались?» – «Все». И вдруг – вскинув брови, стоя: «Стрельба. В столице! И это – в самом центре Европы! В Москве!.. По своим. По народу!.. Что это? – взволнованно говорил он нам. – Какой позор на весь мир! Как в какой-нибудь Замбии или Бангладеш! Что происходит?!»
Оказалось, как мы узнали впоследствии, что там, в больнице, куда нередко ложился и подлечивал лёгкие от последствий туберкулёза ещё с Ростова (переросшего в хроническое недомогание, мучившее его постоянно), – он по окончании процедур вышел в холл. Больные любовались телевизором. В общем зале клиники на этот раз – скопище. В стационаре смотрели «Новости», против «рецепшена» висел телевизор. Он смотрел и никак не мог понять, отказывался верить, что это будни Москвы октября 1993-го. Принял «Новости» за художественную картину какого-то умельца из новомодных. Такие вставки бывают: режиссёры, ничтоже сумняшеся, не смущаясь ничуть, смешивают будни с фантастикой и в «тело» сценария вставляют нечто фантастическое вроде прибытия инопланетян и внезапной войны с ними. В тот же день он покинул больницу, не долечившись. Просто ушёл, кашляя и задыхаясь. Он и с нами говорил в тот день, подкашливая, бледный, даже серый лицом. Но об этом его «побеге», повторяю, мы узнали лишь спустя годы после стрельбы по Дому Советов (он не переносил слов «Белый дом» – этакого реверанса Америке). И я сам через годы снова с благодарностью ему вспоминаю об этом.
И здесь он весь: ушёл из клиники, не завершив поправку своего здоровья, чтобы успокоить нас, своих учеников, по-отцовски или даже по-матерински, чтобы объяснить ситуацию так, как он её видел. Собрал нас, как собрала бы птица в своё гнездо птенцов, чтобы сберечь от опасности.