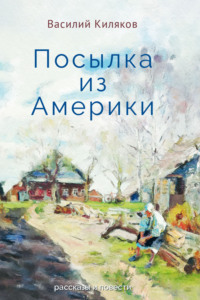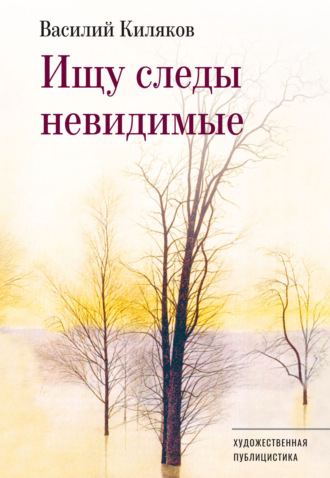
Полная версия
Ищу следы невидимые
ТV, Ютуб демонстрируют нам ныне чиновников, партийных бонз – и отпрысков их, «золотых» столичных мальчиков как пример для подражания, которые в жизни своей ничего тяжелее ложки не поднимали. Передвигаются исключительно на такси. Приглашённые «на голубом глазу» – так легко, скоро и убеждённо-легковесно говорят… Этакое жонглёрство англицизмами и суржиком из молодёжного сленга и мусорной мовы – неких «интеллектуалов» без приложения души. Совсем другое дело – знания, добытые трудным путём страданий, сомнений. Выстраданные, кровью омытые, испытанные, не голословные, на «пикировку» и непризнание, на слом и на удар проверенные.
…Продолжим вспоминать о Мастере под мемориальной доской в Екшуре. Первые рассказы Лобанов публикует в четырнадцать лет в Спас-Клепиковской газете «Колхозная постройка». Они, эти рассказы 1940–1941 годов, были представлены в лобановской экспозиции в фойе ДК. Их разыскали, как я узнал, сотрудники Рязанской областной библиотеки и старейшая сотрудница Клепиковской районной библиотеки Г.Н. Ликий. Кстати, рядом с этими предвоенными «рассказиками» (как он сам их впоследствии называл) и первыми статьями одного из лучших учеников Екшурской средней школы мы увидели тогда многие редкие материалы, например, связанные с его участием в Великой Отечественной, – фотокопии военных справок, орденских книжек, ряд документов из семейного архива, военные воспоминания писателя, пехотинца «На передовой». Всё это было собрано, как оказалось, руководителем музея боевой и трудовой славы Клепиковской школы № 1 Тамарой Александровной Артамоновой, подвижницей-краеведом, которая многие годы переписывалась с Михаилом Петровичем; он присылал в музей письма, книги свои с дарственными надписями, поддерживая живую связь с родной землей. Результатом кропотливой краеведческой и военно-патриотической работы, которая давно велась в школьном музее, стала посвященная памяти знаменитого земляка Лобановская экспозиция. Как нам стало известно, в предшествующем настоящему празднику в Ек-шуре году заняла она первое место на краеведческой конференции «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» (секция «Родословная. Наши земляки»).
И снова и снова – зарницы памяти. Вечной памяти…
В 1943-м – спецкурсы под Уфой и отправка из пулемётного училища стрелком на фронт. Август того же сорок третьего – Брянский фронт, Курская дуга. Разрыв мины – и тяжелейшее ранение при наступлении. По его собственным воспоминаниям, правую руку он, едва живой после атаки, «нёс, как ребёнка», от нестерпимой боли прижимая к груди. С трудом выбрался – повреждена кость. В конце войны, после увольнения из армии, этот юноша из Иншаково, девятнадцати лет от роду, поступает на филфак МГУ, который окончит с отличием. Однако в 1949-м он выберет не литературоведческие штудии, а совершенно иной путь. Получит назначение в ростовскую газету «Молот» – этого он и добивался.
Ростов. Вёшенская. Михаил Шолохов… Первая супруга с младенцем отказывается следовать за Лобановым, съезжать от матери «на пустую кочку».
Потрясённый «Тихим Доном», Лобанов собирает материалы для написания исследования о великом романе. Встречается с Шолоховым, которому напоминает, что тот по матери – тоже рязанский. «Нет, – ответил гордо Михаил Александрович, – нет, я казак! Во мне нет мужицкой крови». И смешно, и трогательно. И ростовские степи, и Дон очаровали Лобанова совершенно. С трепетом из окна поезда разглядывал он те места, где Гришка Мелехов сеял хлеб и воевал. И там, в Ростове, происходит одно из главных событий его жизни, о котором он напишет в книге «В сражении и любви». В одиночестве, обессиленный голодом и ослабленный ранением, переживает он тяжёлую форму туберкулёза. От редакции его изредка посещали, приносили немного еды, но болезнь так тяжела, что «не было сил пройти насквозь, от стены к стене маленькую съёмную комнату», просто «пройти от стены до стены». Кровь шла горлом… Необычайная слабость из-за голода, едва ли не исход души… И вдруг – открываются высшие, непостижимые сферы. Об этом он говорил мне прикровенно однажды и писал гораздо позже, переосмысляя произошедшее, в той же книге, «В сражении и любви». «Благодать» – изречёт он, вспоминая об этой грани жизни и смерти. И навсегда это чувство останется с ним и станет его путеводной звездой.
Кроме заметных и замечательных писателей он воспитал в «застойные» 1970-е и в начале 1980-х годов в атеистической обстановке нескольких священников и одного архимандрита, и продолжал дело всей жизни своей и в трагических 1990-х, и в 2000-х. Хочется спросить у тех, кому Церковь не Мать и кому Бог не Отец: «А вы, отцы, так же смогли воспитать детей, как воспитывал, учеников, он, наш педагог?»
Поразительно, как Михаил Петрович вызывал на себя огонь самых яростных противников русскости духа. Когда он выпускал книги, писал статьи, то «старался уйти в «русский дух», в чём виделось наиболее действенное противостояние «разлагателям России»»[2]. Говорил независимо. Мог ли промолчать или просто просидеть какое-то время в тишине, чтобы отдышаться? Нет, никак. И вот «Просвещённое мещанство», 1968 года. От А. Яковлева донос-опус «Против антиисто-ризма», 1972. (Кстати, есть мнение в литературных кругах, что донос этот заказан был А.Н. Яковлевым и расписан по пунктам, исполнен был за мзду небезызвестным, послушным «верхним эшелонам власти» официозным критиком, а вовсе не самим будущем «прорабом перестройки». Даже и доносы написать сами не умели эти каменщики влиятельные, эти «прорабы» да «архитекторы перестроек»). Яковлев же и раскрутил «возмущение» М.П. Лобановым – поднял волну и погнал её аж до Андропова. И то, что возмущало его, высокопоставленного «бровастого» чиновника, он же – А. Яковлев, как это ни удивительно, – поставит, помимо всего прочего – целью и образом своей жизни и впредь: приспособленчество, мещанство, жажду наживы и исключительно собственного благоденствия… Таковым и останется в нашей памяти этот «куратор перестройки», который в 1958–1959 годах стажировался в Колумбийском университете США. Он же заявит в 2005 году цинично и развязно: «Несмотря на нищих в переходах, на войны на окраинах, на беженцев, на новых русских со всеми их прелестями – сегодня страна лучше, чем пятнадцать лет назад»… Он был хорошо «устроен», избалован безнаказанностью и мог позволить себе выпады самые разнузданные и циничные (А. Яковлев. «С ничтожествами из ямы не вылезти»). Да разве – только он один, а сколько недоброжелателей по отмашке тех же Андропова и Яковлева выбрали мишенью именно Михаила Петровича?.. Как любили о ту пору именно что по отмашке сверху налетать ордой на одного…
По просьбе автора повести «Драчуны» Михаила Алексеева – Михаил Петрович честно пишет свои мысли о ней. И опять виноват Лобанов… М. Алексеев в недалёком будущем примет и поведёт журнал «Москва», станет благополучно главным редактором, а Михаил Петрович – снова в опале. Это теперь переписывают историю, вернее, пытаются переписать. Лобанов покинул нас, и вот – «заговор молчания» официозных СМИ (как выразился один из учеников М.П.) в связи с его кончиной… Демонстративное равнодушие «прогрессивной общественности», публичной (в самом прямом смысле слова)…Такое впечатление, что определённым кругам свербело, скребло, хотелось вычеркнуть из нашей истории имя выдающегося мыслителя и великого патриота России.
«Доставалось, достаётся мне за эту “русскую духовную стихию”», – говорил сам Михаил Петрович в статье «Убеждение» из последней своей автобиографической книги. Вспоминая тёплые слова Вадима Кожинова о Лобанове, назвавшего его «наиболее полнокровно – из всех известных мне моих современников – воплотившем в себе русскую духовную стихию»[3], горблюсь от тяжести намеренного «непонимания», непризнания его чиновниками от литературы, политиками. И сам М.П. добавлял, бывало: «Лично меня это нисколько не удивляет, надо же расплачиваться за свои убеждения, за которые мне достаётся с обеих сторон».
Фронтовик Михаил Лобанов имел в виду не только открытых своих оппонентов. (Речь шла об имевшем место сознательном замалчивании имени «признанного патриарха отечественной патриотической мысли» иными «записными патриотами», по его выражению, – теми, кто «о себе – на первом месте»). О «переписывании истории патриотического движения с “выбрасыванием” Лобанова, истории его жизни и более чем полувековой борьбы». «Перечёркивание моего имени в русской литературе, того направления в ней, которому я верен» – это его слова, М.П. Лобанова, это боль последних лет жизни писателя, участника битвы на Курской дуге.
У истоков русской национальной линии сегодня стали записывать свои имена совсем другие люди, большие чиновники. Мода – или спохватились? И эти подтасовки смешны, от них, от этих «крикливых, горлопановских» (по выражению самого автора книги «Убеждение») «ура-патриотов» он тоже натерпелся. Кто они – легко прочесть и просчитать. Уже не Лобанов, а другие теперь, как вдруг оказалось в новые времена в «первых передовых записных патриотах»… В связи с этой попыткой замалчивания его книг, его направления в русской литературе, «переделывания истории литературы» (причем, увы – не только открытыми недругами) М.П. замечает: «Дело не в том, что замалчивается моя фамилия, а замалчивается направление моей работы, направление, которому я верен».
«Мое направление должно продвигаться. Оно не продвигается, а нарочито замалчивается». «Дело не столько во мне, сколько в русском направлении. Я никогда не играл в литературу, я отдал целиком ей всю жизнь». (Может быть, сказал как-то сам М.П., здесь тот случай, о котором писал Вадим Кожинов в своей рецензии на его рукопись (16 февр. 1981) о тех литераторах, которые не доросли до понимания творчества критика, его «внутренней значительности» (жур. «Наш современник». 2015, № 8)). Те именно оказались в списках патриотов сегодня, которые благоденствовали тогда, когда он, в вынужденной своей внутренней эмиграции, взялся за любимых русофилов Аксакова и Островского. Но и здесь его новый взгляд на известные вещи был из ряда вон выходящим, и книга «А.Н. Островский» в «ЖЗЛ» (1979) «вызвала целую бурю» (критик Юрий Павлов), подвергаясь остракизму за православную духовность и религиозность. А в 1994–1995 годах его работа над книгой «Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи» стала явлением. Именно в эти годы ненависть к фигуре Сталина достигла апогея. Искусственно разжигались гнев и ярость народа, подпитываемые нарочито устроенной бедностью и голодом большинства, даже нищетой во всех смыслах этого слова, включая Библейский.
После выхода его книги о Сталине он сам однажды сказал мне: «Если бы раньше прочитал твой рассказ «Сиделец», Василий, то непременно поставил бы его, как и живые страницы отца Дмитрия Дудко о Сталине, в свой сборник, в свою книгу «свидетельств о Сталине». И всего-то дел, казалось бы: старик-сиделец у бабки водки выпил, но как живо написано! В коротком рассказе – вся суть и срез целой эпохи». Конечно, я был счастлив. Выше похвалы для меня и быть не могло. Даже и не оттого, что он признал «руку» молодого тогда литератора, а потому, что посчитал строки рассказа достойными своей книги. Казалось, он увидел и во мне – бойца, стрелка. Позже рассказ был опубликован и получил премию им. Андрея Платонова «Умное сердце» (2011 г.) газеты «Гудок» (РЖД). Получается – и я выстрелил не «в небо», не «в белый свет как в копеечку», – в цель.
В самое жестокое для страны время 1991–1996 годов студенты учились у него стойкости и «непробиваемой» выдержке, «стоической», но – в православном понимании стоицизма (если такой симбиоз возможен). Для неправославных и вовсе не объяснимы его неизменная твёрдость, постоянство, непоколебимое рачение о ближних, и в самое суровое время, если отсчитывать от окончания Великой Отечественной войны, – это 1991–1996 годы – он не менял убеждений. Даже принимая в расчёт, какой раскол (без всякого «кипения весёлого») был тогда в стране даже на низовом, бытовом уровне: кто-то ушёл в бандиты, кто-то – охранниками в ЧОПы. Россия была в растерянности и разоре… В этом, похоже, и состояла подлинная суть горбачёвской «перестройки с ускорением». Ускорились так, что встали прокатные станы в Электростали – городе тяжёлого машиностроения. Военный завод («почтовый ящик»), где я работал, «переквалифицировали» под той же вывеской: «изделия» (военный термин оружия, боевых машин, детали для которых изготавливали на станках ЧПУ) – Госзаказ переоформили на иные «изделия»: кастрюли и гусятницы: разоружение, капиталисты стали внезапно «братьями» «в общем, в глобальном масштабе» (по словам первого президента). Бандитизм, безверие, раздрай. Три дороги оставались нам, молодым, в те угрюмые времена: в милицию – но туда-то попасть даже на самую захудалую должность было непросто, да и годиков было мне за тридцать. Или – в те «частные» охранные предприятия (где платили чуть больше, чем в милиции, но с задержками иногда по полгода), или – на рынок в торгаши. И это с техническим-то и высшим образованиями. Один из моих друзей так и поступил: окончив «Бауманку», встал на рынке у своего ветхого прицепа со стиральными порошками. Вот такое «своё дело» открыл он. Купил на складе – продал на рынке, с этого и живи-прозябай. А работа его с нанотехнологиями по напылению графитом и теплоизоляции – прорывная, как потом оказалось! – побоку. Ни звание, ни защита диссертации – стали никому не нужны…
Нищета, отчаяние. Безгонорарные публикации, пустая, нищая, голодная «читательская» публика в Москве… Даже в Москве: на улицах и рынках, на вокзалах и за лотками сплошь – мешочники да лавочники. Жизнь они полностью подмяли под себя, эти самые торгаши, – и взирали с лотков на прохожих, как пауки из щелей взирали бы, выслеживая мух. Палёной водки – море разливанное. Пляски хоровые с подтанцовкой и ужимками уголовников – урок на блатные мотивы М. Танича с фартовым выплясом (и это со сцены Кремлёвского зала!) аферюг, и тустеп-чечёточка их: «Все на работочку, а мы бацаем свою чечёточку…». Милиция – и та с удовольствием подчинилась «блатной музыке» во всех смыслах слова, распальцовкам («музыка» – по фене – «блатной разговор»). И не где-нибудь, повторяю, а в самом Государственном Кремлёвском Дворце.
По телевидению – чернуха, «600 секунд» и «Красный квадрат». Вознесенский воспевает подтяжки убитого Листьева Влада – точно так же, как некогда воспевал подтяжки Высоцкого Владимира. Дались ему эти подтяжки! «Получили дозу своего лекарства», как говорится… Тот, кто открыто вывалил напоказ духовные отбросы – то есть был занят тем, что через телевидение за большие деньги пронимал до дрожи знобящими картинками разложения, тот, кто разводил «крыс» и душевную помойку, кто культивировал пороки, он самый, в радужных подтяжках, опять-таки заимствованных у американцев, и был убит и растерзан этими самыми выросшими и натасканными на живую кровь «крысами»… Этакая мистерия с жертвоприношениями во славу Золотого Тельца. Некая метиска-телеведущая, губастая, отвратная, с голыми ляжками и в кожаной короткой юбке – кривлялась в заставке на ТВ к её программе для молодёжи, как мастурбирующая мартышка – на анонсах: «Про это». А в интервью своих объясняла, что в мужеложстве и лесбиянстве якобы нет никакого порока: «Это заложено в самой природе…»
Отец мой, преподаватель электротехники, однажды смотрел-смотрел – не выдержал, подошёл и плюнул в «голубой экран», в это «публичное́ пространство». Актёр Филатов начитывал «Федота-стрельца, удалого молодца», уже заикаясь и пришепётывая (казалось бы – вот оно время и ему подумать о душе, на грани инсульта. Нет!) – и всё фотографировался: то с кошечками, то с собачками – какая прелесть! В этом вся суть актёрства: самолюбование. Страна летит в тартарары – а они, наши актёры, всё с кошечками да собачками… Удивительный инфантилизм, конформизм. Впрочем, чего же ждать в трудные времена от трансляторов чужих, вызубренных «под кино» монологов, написанных для недалёкого зрителя? Впрочем: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».
И «каждый вторник в шесть часов вечера», вернее – к шести вечера из далёкого пригорода, из самой Электростали ехали мы, студенты «Лита», опускались и поднимались по метро, по улицам великого града Московского, превращённого в 90-е в помойку, мимо угрюмого памятника Пушкину, с немым укором склонившего и выю, и главу, – тянулись мы по адресу незабвенному и теперь: «Тверской бульвар, дом 25». К бывшему родовому фамильному поместью Герцена-Яковлева-«iskander», к Литинституту. «Каждый вторник, в шесть вечера» к Михаилу Петровичу Лобанову на семинары «по прозе». Хотя, какая «проза», когда в душе – смятение. Столько ропота и недовольства… Явная несправедливость и ложь мытарили нас: «…Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои…», – как принуждали нас учить наизусть «ревнителя прогресса и просвещения», «вольнодумца» (с масонской подоплёкой) «века Разума» Радищева, но ведь это, казалось, осталось в прошлом, но теперь-то, теперь, как же так. И, мы, максималисты, как многие по молодости, ставили главный вопрос: а зачем жить?! И вот в таком-то смятении духа вдруг слышал на семинаре от Лобанова: «Василий, пиши. Ты должен, обязан писать, несмотря ни на что. Пиши из себя, своё». Он словно отмывал, отстирывал и бережно отжимал наши души. И они снова вспыхивали, как «ландыши», по есенинскому слову. Духовная баня…
Этот жест его искалеченной на фронте правой руки – жест вперёд, от груди, от сердца, он как бы отдавал себя нам – разве его забудешь… Отдавал, отнимая что-то от себя, – снова последнее, как прежде, на фронте – последнюю краюху, найденную на дороге перед боем – товарищам, которых, быть может, видел в последний раз. Или – как впоследствии, в университетские годы, когда мальчишкой-инвалидом Отечественной войны посылал свой прибережённый паёк – белый батон – младшим братьям в изголодавшуюся послевоенную деревню, – так и при встречах-уроках он делился с нами хлебом насущным, духовным. Так и виделось: отдавал последнее однополчанам, затем – сводным братьям, а теперь – нам, мне, ученику-«семинаристу» Василию Килякову.
…Вижу его въявь, как держит он очки за дужку. Плечистый серый рябенький пиджачок… Отеческий взгляд – с таким порой состраданием, от которого сжималось сердце, – с таким пристальным участием, что не передать словом… Всех выслушает, а затем взвешенно, с высоты огромного опыта, даст своё заключение. И когда объяснял он нам главное – тончайшие пружины жизни и подземные невидимые рычаги и шестерёнки становились отчётливо скрипучи, слышны и зримы. И оторопь брала тогда: как же я-то этого не заметил, сам, без подсказки, ведь так очевидно!? И, вроде бы, знал и видел то же, что и Лобанов, но – не так цепко смотрел, что ли… Акцентировать, обобщать он умел как никто из встреченных мной по жизни. Прошёл мимо многого я, и за «пустяки» почёл многое важное, принял ключевое за что-то не достойное внимания. А вот он, Лобанов, посмотрел и – тотчас увидел. И именно то́ и увидел, и понял как раз то самое, что оказалось важным, обобщающим, итоговым. Он словно с другой стороны показывал предмет, со стороны совсем неожиданной. И тогда мы, ученики, обмирали от внутренней радости, от понятого, раскрытого нам во всей полноте Предмета.
«Предмет, предметность». Он любил это слово – «Предмет». Предмет как Божье изделие. Предмет как фактура – не выдуманное изделие, не метафора, а пережитое. Божье попущение или же – веление свыше. Прожитое, обдуманное, внутренним жаром опалённое. Тогда только высказанное на бумаге становится полновесным и только твоим, честно заслуженным собственным Опытом – ценнейшим – в сотворчестве с Демиургом. Это и есть Предмет в его понимании. А опыт такой предметности необычайно дорог и необыкновенно важен всякому, а уж писателю тем более. Всё не осмысленное и не поднятое до Предмета, непонятое – так и останется всего лишь попыткой разглядеть, разгадать, расколдовать, расшифровать. Додумать. Слово это благодатное, лобановское, слово большого Художника, такое же ёмкое слово, как понятие: «внутреннее и внешнее». Любое – и грубое, и тонкое – он чувствовал иначе, острее, зорче именно внутренним зрением. Так у И.А. Бунина был обострённый взгляд на внешнее, а у Лобанова – на внутреннее, на тот мир, который невидим, сокровенен, но в то же время реальнее видимого. Постигнуть сказанное им в книгах, возвращаться как можно чаще к его наследию – вот мой совет всем литераторам, преподавателям, всем, связанным с искусством, а уж православным – тем более. И почаще бывать на его родине, в память о нём, в Екшуре, в ДК его имени – всенепременно…
Строг он был (к себе, прежде всего) и к общему нашему «писательскому цеху» необычайно. Как метко и со знанием дела оценивал: два-три слова по существу – и все в цель, в самую точку. Как пристально наблюдал он – до самых мелочей. И словб, и поступки – взвешивал всё на тех же весах: нравственность, вера, любовь. Совесть, благодарность, убеждение (три принципа, которые он вывел из опыта своей долгой жизни, по которым, по его суждению, можно разделять людей)[4]. И как же русские писатели дорожили его мнением!
В.П. Астафьев просил его написать предисловие к своей книге «Последний поклон». Его переписка с В.Г. Распутиным, В.И. Беловым – бесценны… Уверен, не было писателя, который не желал бы, чтобы о нём написал сам Михаил Петрович Лобанов. Даже среди либералов: пусть изругает, раскритикует, но упомянет хотя бы имя автора в печати – уже удача. С содроганием предполагаю, сколько потеряла литература оттого, что его замалчивали по указке сверху, что из-за травли и идеологических «разносов» партийными бонзами и либеральной прессой был он загнан в «ЖЗЛ». Но вот – написал «А.Н. Островского», «С.Т. Аксакова» – и опять промыслительный подарок. Это – не просто биографии «русофилов» и любимых писателей. Они все связаны, навечно стянуты насущным временем через «идеологическую борьбу между либералами, западниками и почвенниками» (его слова). Издавна горела и тлела эта война и необычайно ярко вспыхнула опять в начале 1990-х. И всё же – литература была для него даже превыше этой борьбы, так честен он был, выше же творчества и таланта – только Сам Христос…
Размышляю: возможно ли наверстать теперь то, что недосказано было им о современной литературе? Сколько не открытых им имён так и ушли, не обозначенные им, в неизвестность… Сколько талантливого народа из глубинки не получили благодатного помазания маслицем на лоб от него, от его искалеченной на фронте десницы!.. Но разве его в том вина? Дали бы говорить ему беспрепятственно, будь шире его аудитория, как расцвела бы наша литература! А среди всех могли быть, как говорят в народе, «на́большие». Не узнаем теперь о них никогда. И кто же посмел ждать от него и принять его заявление «об уходе»? Когда-нибудь откроется и это. Шила в мешке не утаишь. Однако он оставил нам свой, лобановский ключ к постижению «литературы и жизни» (по названию одной из его статей) – вот об этом явлении и просим теперь говорить.
«Дух, Духовность… Русский… – Нельзя!» – так решили: Ю. Андропов, А. Яковлев со товарищи. Хотелось спросить поимённо и у хитроумных закопёрщиков «перестройки»: а почему, собственно, «нельзя»? Однажды в 1992 году я не выдержал и, удивлённый тем, что Лобанов так страдал от наскоков того самого А.Н. Яковлева, сказал ему возмущённо: «Неужели кого-то обидит, если я скажу прямо и просто очевидное: я – русский? В России скажу. Послушайте – вот даже в Германии, не где-нибудь, замечу особо, а в Германии самой, только что объединённой, – и там едва ли не на каждом столбе висят обращения: «Немцы». И никто не срывает эти листы-обращения, не давит и не теснит за эти призывы, не преследует… И это в той Германии, которая через страшную кровь и скорбь мировую после двух мировых войн, где она была и главной разрушительной силой, Германии не только национально заорганизованной, но «нацистской», фашистской по сути, как знаем, в иные времена (я видел группы молодчиков в кожаных куртках и кожаных штанах, в ботинках подкованных, с бляшками-молниями видел молодёжь профашистскую на улицах Берлина 92-го года). И никто не задерживал этих «скинхедов» на немецкий манер. Они отлавливали поляков, вьетнамцев, турок и избивали их. Едва-едва удалось разделить и огородиться стеной от их воинственности и национализма, удивительно! Не обижает никого из стран «толерантных» и это их «Deutsche!» – обращение к нации даже в восточной части Берлина – ни аусзидлеров, ни поздних переселенцев, ни эмигрантов в Германии. Разве все забыли, к чему привёл этот их тевтонский аппетит с идеей «сверхчеловечества». А Россия теперь вынуждена всё время контратаками пробавляться: русский – не чихни, не вздохни в ответ на любые происки новоявленных «зажигателей Вселенной» (выражаясь языком наших героических предков). Иначе скопом вся Европа навалится. Ведь всё, что было завоёвано нами ценой больших жертв со времен походов Наполеона, – всё мы «вернули» им. «Вернули взад», как говорят в народе. Вернули и покорённую Германию, точнее – отдали страну-агрессора в орбиту США и Западной Европы. Без всяких репараций и контрибуций – безоглядно, по-горбачёвски отдали восточную часть разделённой по заслугам Германии. А из давней истории Европы наполеоновской: Александр Павлович, государь наш, в своё время дошёл с казаками до Парижа, помолился на бульваре Сен-Жермен – и вернулся назад, и казачков вернул (я имел в виду молитву царя в день Светлого Христова Воскресения (1814 г.) с православным своим русским воинством в земле иноплеменника, на месте казни Людовика XVI, описанную Н.А. Шильдером). Или – всё та же Берлинская стена, которую по отмашке Горбачёва позволили разрушить. Ушли из Берлина, ушли из Прибалтики, Чехии, из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, сдали даже и «ридну мати-Украину»… И её тоже, оставили всё. Да разве только это… И вот: «я – русский» в самой России – не скажи! Толерантность или терпимость ко злу, что исповедуется сегодня, непонятна. Или просто предательство?..» – так говорил я М.П. Лобанову. А в ответ услышал: ««Ах, Родина, какой я стал смешной! На щёки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец…» – всё это было. Всё это уже было, Василий».