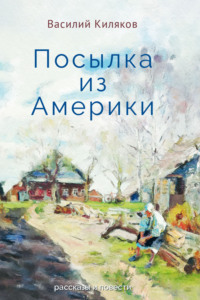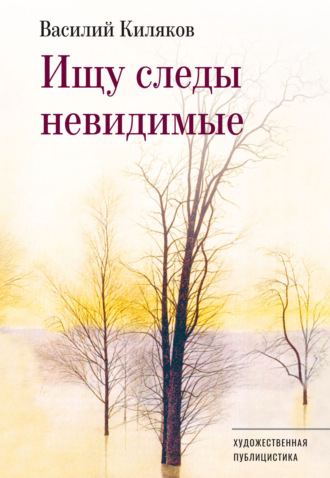
Полная версия
Ищу следы невидимые
…Вечер памяти Лобанова на родине его открыл глава Екшурского сельского поселения Олег Викторович Закалюкин. Затем выступил глава администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин, поднимались на сцену и многие другие. Радушные хозяева подготовили замечательную литературно-музыкальную композицию – поистине творчески руководит Екшурским Домом культуры (и, в частности, – вокальной группой ДК «Кумушки») певица Елена Яранцева. Выступали профессиональные артисты, была яркая, переливающаяся всеми красками родной клепиковской сторонушки художественная самодеятельность.
Выступили литераторы, в том числе и мы, приехавшие из Москвы, очные и заочные ученики Михаила Петровича.
Тепло и хорошо говорили, тревожа аудиторию самыми насущными проблемами писателей и читателей, об эстафете поколений – от Леонида Леонова, М.А. Шолохова, преемственность так много значила для Лобанова: от леоновского «Русского леса» – и первой работы о нём Михаила Петровича – до последнего романа «Пирамида». Тревожили, потому что невозможно говорить о Лобанове и не соотносить его мировидение – с нашим взглядом на современность. И это соотношение, конечно, не в нашу пользу, не в пользу веяний нынешнего времени – не радует. Заместитель председателя Союза писателей России Н.И. Дорошенко вспомнил именно об этом, рассказал залу о проблемах творческого становления молодого писателя – они известны ему, как мало кому (он с давних пор в СП России – ответственный секретарь по работе с молодыми авторами). Ему есть о чём сказать, чем поделиться с аудиторией; было предложено, в частности, в будущем проводить в этом прекрасном культурном центре Лобановские чтения.
Вспоминал Михаила Петровича и Александр Евсюков – молодой, но уже крепко, уверенно пишущий автор. А вслед за ним взяла слово и легко, и свободно выступала и читала свои рассказы Софья Гуськова, актриса Театра Российской Армии и тоже ученица Лобанова. Передавали эстафету другие: читали стихи, исполняли песни на стихи Сергея Есенина…
Русские сарафаны, замечательные светлые лица… Праздник, даже при многочисленности приглашённых и присутствовавших в зале, получился камерным, уютным, почти семейным. Из родных Лобанова в зале присутствовали: брат по материнской линии Николай Агапов, дочь Михаила Петровича – Марина Могутина и его внук Глеб, сказавший много хороших слов об открытии Дома культуры.
Впечатления остались самые добрые. И не только потому, что здание ДК на родине Лобанова так ново, так чисто и уютно: построен и оборудован корпус – на перспективу, с широкими возможностями показа фильмов, с цифровыми технологиями, всегда отныне готов для встреч с писателями от СП России, желающими посетить Екшур, – с будущими посланниками, которые пойдут теми же дорогами от ДК Лобанова к храму, теми же путями, где хаживал Михаил Петрович. Сердце утешалось в Екшуре этим милым, мягким гласным, рязанским протяжным наречием с выговором – на «е» и «а»: округляют, бегут словеса, катятся, освежают интонациями; удобряют речь рязанцы метким народным словечком, метафорой, пословицей щедро, даже с избытком порой. Так заметны, памятны мне эти говоры с детства, особенно в присказках и в поговорках. «Я люблю этот край подсвешный, / Где на взгорок через луга / На молебен рядком неспешным. / Как монахи, идут стога», – написал очарованный «Мещерскими бродами», замечательными людьми этого края поэт, секретарь Правления Союза писателей России Евгений Юшин, много потрудившийся для того, чтобы памятное событие на родине Лобанова состоялось.
…Мы впервые в Спас-Клепиках. Припомнились записи Михаила Петровича «Из памятного» об этих местах, где он говорит в раздумьях о родине – из поездок с чужбины, записывает из какой-то азиатской страны примерно так: дождь, дождь и дождь несколько дней. Включил телевизор. Там прыгающая цветная обезьяна – скорее выключить!.. Почему так просится душа домой, на родину, в чём дело? А дело в том, что моя память здесь, на чужбине, – пуста. Не цепляется, не может ухватиться сердечная память за события. Всё там – на родине – узнаваемо, всё сокровенно: увидел куст – там бегал в детстве босиком… а у тех кустов – мама обморозила ноги, когда рубили дрова в лесу… Всё цепляет, всё тревожит на родине, всё наполняет воспоминаниями душу. За границей же, среди пальм, нет родовой памяти, оттого и тянет так домой – к полноте сердца. Воспроизвожу его мысли по памяти, но суть именно такова.
Теперь и я побывал в родных местах его, о которых столько сказано и с такой любовью. Здесь он родился, здесь жил. К этой земле сердечно был привязан… «На родной сторонушке – рад своей воронушке…» – метко замечено в народе. Даже и вороне-воронушке – и той рад! Михаил Петрович если и отъезжал за границу, то всегда ненадолго и стремился скорее вернуться домой.
…Как поразительно талантлив наш народ, наша земля: километров в тридцати пяти от дома Есенина (если напрямую) – родина Лобанова. Оба учились в Спас-Клепиках. Ходили одними тропинками, купались (с небольшой временной разницей: Лобанов родился в ноябре 1925-го, а Есенин ушёл в декабре того же года) – в одной реке (и она недалека от ДК, река Пра). Как удивительно, как выразительно богата наша Почва: в какой Калифорнии или в каком предместье Альп возможна такая корневая система, такой «симбиоз» таланта, мудрости и добра? Два крыла: с одной стороны – есенинская порывистость, чувственность, необычайная «моцартианская» лёгкость слова, афористичность – «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете…». Яркость и свежесть – в жизни и в литературе. Другое «крыло» – и смысл всей жизни – в служении русскому делу Михаила Петровича Лобанова, фронтовика, мыслителя, преподавателя, критика; мудрость, центризм, государственность, глубокая Православная вера, имперское мышление с акцентом на сбережение народа. Сдержанность и взвешенность во всём. Есенинская задорная «удаль забияки и сорванца» и «…я более всего весну люблю…» – в сочетании с лобановским полнейшим безразличием к славе, с идеей нравственного вдумчивого воспитания и поддержки человека труда, с определённой, ясно выраженной идеей сохранения народа, в особенности народа русского – главного достояния. (Русский лес, по Л. Леонову – народ, который необходимо сберегать… И первая книга Лобанова, повторим, – о Леонове, о его романе «Русский лес»). Два крыла, без которых нет взлёта и не может состояться полёт.
«Да по́лно! – думалось иногда. – Понимают ли вполне там, в Екшуре, памятную доску кому, какой Личности они открыли, и осуществима ли, возможна ли и впрямь мечта: писателям под эгидой СП России и впредь «разрабатывать» эту «систему Лобанова» – посещать ДК регулярно, устраивать вечера и встречи его памяти. Навещать и дом его на родине, культивировать память о нём, возрастая нравственно и творчески с молодняком-подлеском, о котором говорил Дорошенко, о котором нынче так радеет наш писательский Союз. Как ни прикидывай, а – поистине мечта, если задуматься: вечера поэзии Есенина в ДК Лобанова. (Или вечера другого прозаика, поэта, критика, любого одарённого литератора, талант которого созвучен и сродственен талантам Лобанова, Есенина). Не всё бы улицам Марка Захарова да «Центрам зарубежья» Солженицына – столбовую дорогу, и в Москве – особенно. Зачин есть, начало состоялось 12 декабря 2019 года на Рязанщине. Но есть и реальная возможность – народному движению переименований – дойти и до самой Белокаменной, и до Северной нашей Пальмиры. С таким размахом думалось мне тогда, и бежала-струилась за окном автобуса таинственная ночная дорога к Москве из-под рязанского Екшура, и бросали блики светлые афиши и светофоры, радужные играющие цвета (в разночтенье своём подобные моим далеко ведущим мечтам).
…Есенинские строки «лицом к лицу лица не увидать» стали крылатыми и через десятилетия восславили поэта, а его замалчивали десятилетия. Уверен, что рано или поздно Россия вернётся к подлинному осмыслению и переосмыслению наследия писателя, критика, публициста Михаила Петровича Лобанова – ярчайшей личности. Переписка его с В.И. Беловым, В.П. Астафьевым, В.Г. Распутиным – многажды цитируется и издаётся. «Капитан Тушин», «боец на передовой» – по слову критика Юрия Михайловича Павлова. Так жил Лобанов, таковым и ушёл. Последние годы были особенно тяжелы. Быть может, если бы он продолжил преподавание в Литинституте и дальше, то и дни жизни продлились бы, даже скорее всего так. Преподавание, верность литературе, русскость в глубинном, религиозном смысле – вот источники, которые питали его. Уверен, дело всей его жизни – обучение, воспитание (вос-питание духовное) молодёжи – было прервано кем-то «высокопоставленным» намеренно. Кто, по чьему «задёру», замыслу и умыслу вынудил его, профессора, руководителя семинара, кафедры творчества Литературного института с более чем полувековым преподавательским служением, заслуженного работника Высшей школы России, почётного работника культуры города Москвы, написать в августе 2014 года это «заявление» на имя и. о. ректора? Эту невероятную «просьбу» «в связи со сложившимися обстоятельствами» освободить его от занимаемой должности руководителя творческого семинара «по собственному желанию»; «просьбу», ознаменовавшую наступление для Литинститута новых времён после ухода с поста ректора Б.Н. Тарасова и так дорого стоившую ему – фронтовику, раненному в боях за родину, наставнику молодёжи с его абсолютным литературным слухом, с любовью к делу, к своим «семинаристам» – и с их ответной взаимной любовью к нему… Горько вспоминать.
Я часто беру его книги с дарственными надписями, веду диалог с ним внутренне, разговариваю через его строки, так, как если бы был он жив, и мы снова встретились. «Василию Килякову, который собирался впопыхах, а оказался на Олимпе. Город Владимир, 2 апреля 1996 года. Приём в СП России». Такая вот, с юмором, дарственная надпись на его книге, подаренной мне, «В сражении и любви». Вся жизнь его – сражение и любовь к людям, порывы милосердия… Неизбывное осталось ощущение, что отдавал он всего себя, без остатка – с такой величайшей жалостливостью воспринимал окружающих, с таким состраданием. Не соотносил себя с людьми, как теперешние «волчата-писатели» «с их плебейской, мутной и безотрадной прозой» (его выражение), а именно жил, проживал судьбу каждого ученика. Он набирал семинары, искал талантливых. И как же радовался, если находил! Талант был главным критерием его оценки, а его добротой пользовались. Я знаю, что он давал деньги ученикам и ученицам, – конечно, без отдачи. И узнал об этом, понятно, не от него… Да разве только это… О его всепрощении ходили легенды. Никогда не забыть, как он здоровался. Крепко, внимательно брал за руку. Глядел прямо в душу. Не выспрашивал, но каждое слово он «видел». Именно видел, а не только слышал… Или такая дарственная запись на книге «Твердыня духа», это уже 2010 год: «Дорогому Василию Килякову с сердечной благодарностью за внимание к моей литературной работе, что меня и трогает, и воодушевляет. Ваш Михаил Лобанов, 21 апреля 2011 года. Литинститут». Как это цепляет, особенно теперь, до самого дна души.
Дарственная на его книге «Оболганная империя» – не для широкого читателя. Строки убористым остроугольным почерком горьки и суровы, с написанным откровенным признанием не поспоришь… Он был твёрд, всегда собран. Не «умел быть твёрдым», а именно был таковым – мягким же казался только от любви, даже нежности к людям. Но жёсткость была для него не характерна. Помню, как он подписывал «Оболганную империю» с некоторой застенчивостью умудрённого человека, для которого борьба – всё-таки не самое главное в жизни, а главное – литература, которую ещё во время дискуссии «Классика и мы» в 1977 году – он, единственный из писателей, по словам Юрия Павлова, трактовал через категорию тайны как высшей потребности души. Культура, творчество, чувство родины. Уметь принимать человека как «сколок» Образа Божьего – вот что было важным в его жизни. Понять эту тайну Божью – Человека – и, разоблачив, преодолеть про́пасть между величием и низостью человеческой – помочь в этом делании всем. Да разве же разоблачению этой тайны не стоит посвятить жизнь, в самом деле?! Величие человека – в его мечте, в стремлениях сердца.
…Что за тайна – он сам? Откуда вообще в русском народе эти вспышки-явления великих праведников и святых, эти таланты из недр народных, эти явления Духа? Среди нищеты, кромешного голода рождается в селе Иншаково в рязанской глуши мальчик под крышей из дырявой щепы и соломы, продуваемой всеми ветрами. Мальчик, который сам находит и выбирает, что ему прочесть, чтобы сформировать и «огранить» характер. Пишет первые рассказы в четырнадцать лет, а после войны, вернувшись с фронта, будучи уже студентом, посылает последнюю краюху хлеба родным – матери и малолетним сводным братьям… (Вспомнить его голод фронтовой и ту буханку хлеба, которую он нашёл на фронте, на передовой, на шоссе, случайно, ту, которую ел перед боем, разделив по-братски с ребятами-воинами, вчерашними школьниками, быть может, перед последним сражением (Лобанов М.П. Из памятного // Молодая гвардия. 1985. № 4. Цит. по: Он же. Страницы памятного. М., 1988. С. 256). Ему самому в ту пору едва исполнилось семнадцать. Как трогательно и сокровенно описывает первый бой и впоследствии батальон, от которого осталось в живых и отправилось на переформирование и новые атаки всего лишь пятнадцать человек…) В пять лет остался без отца (мать, имея двоих детей, вышла замуж ещё раз за вдовца, у которого было и своих пятеро, чтобы родить ему ещё четверых). По свидетельству родных, он сам, младо-воин, еле-еле стоял на ногах от постоянного недоедания. А средний сводный брат Валентин, иногда путаясь, называл его папой. В письмах ему он так и писал: «Остаюсь твой сын Валя…»
Что и как он читал в то время, о чём размышлял? И что это было за время – дальнее, почти былинное? Когда к семерым – среди беспросветного труда и недорода, и голода – рожали ещё четверых? И жили! И при этом – гордость его, Лобанова, – за нацию, за «цементирующую все народы и республики» силу. «Русский лес», лес человеческий… И что же это – порода, наконец, неразгаданная, русская? Любимое слово и высшая похвала поступку или писателю из его уст: «Настоящий русак!» (так называл он, кстати, и своего клепиковского друга-земляка Е.П. Кочеткова, о котором уже говорилось выше, которому он посвятил и страничку в своём «опыте духовной автобиографии», книге «В сражении и любви»). С 1990-х годов я слышал эту похвалу подвигу того или иного человека от него – совсем нечасто – мало кого он удостаивал таким званием, произносил всё реже эти слова. И как же оскорбляло его нынешнее засилье и дикарская «игра» – эта война на литературном поле ныне живущих, повторяю, молодых «волчат» в литературе и в жизни!..
Помню, с каким недоумением – может же такое вообще случиться! – передал он мне однажды через студента Андрея Тимофеева книгу «Десятка», в которой разве только Захар Прилепин не выпустил матерный рассказ, избежал этого. Лобанов, мастер слова, был поражён, изумлён, будто при нём поругали святыню… Литература была для него на втором месте среди святынь, и вдруг – такое. Что же оставалось? Ему самому написать разгром на этих «волчат», тем самым давая им рекламу своим именем? Он выбрал другой путь – в противовес бездарям и циникам из «Десятки»: сборник своих выпускников «В шесть часов вечера каждый вторник». В сборнике под эгидой Литинститута он собрал прозу своих дипломников. В июле 2013 года книга вышла в свет (помощницей в литературной работе была супруга Татьяна Николаевна). Достойный ответ. Сверх того – явная, «чистая» победа через книгу – в этом споре о нравственности, не заочно, а делом – в этом весь М.П. Лобанов – ответить, дать отпор, но ответить нравственно, достойно. Сопротивляться всячески «просвещённому мещанству» и особенно – непросвещённому…
Читая книгу выпускников с первого рассказа «Хозяин» Алексея Серова, я искренне радовался – какая удача! И горевал: ну что такое тысяча экземпляров сборника! Как разогнать облака таким тиражом? Серов – талантливый светлый писатель, этакий «анти-Сенчин». Читаешь и – внутренне обмираешь, но не от тревожной беспросветной мути нашей «житухи» под либеральный аккомпанемент «елтышевых» или «десяток», а – от перспективы хоть и далёкого, но – света. В этом рассказе рабочий парень – по существу становится хозяином предприятия. По преданности делу, заводу, по нравственному устроению своему – честно – не только побеждает новых заводских «приватизаторов», а оказывается и хозяином положения, рачительным и подлинным директором по существу не только цеха, а – и самого завода, отвечает при систематической задержке зарплат; – и становится добытчиком и ревнителем порученного заказа. Только такой хозяин и одновременно деловой работник, не рвач, не устремлённый к прибыли «денежный мешок» и мог спасти положение. Эти «денежные мешки», по обналиченным векселям купившие всё производство, едва не угробили завод. Спасает простой рабочий. И здесь опять: «Внутреннее и внешнее» – твердь Лобановская (у Михаила Петровича есть книга, которая, напомню, так и называется: «Внутреннее и внешнее»). И этот сборник выпускников Литинститута – «выстрелил»! На презентации в Литинституте тогдашний ректор Борис Николаевич Тарасов назвал его «беспрецедентной книгой». Высоко оценил его известный публицист, критик, тогда – зам. главного редактора журнала «Наш современник» (увы, ныне тоже ушедший) А.И. Казинцев. С сочувствием отозвался о книге в своей статье «Остров надежды» духовно чуткий писатель (по лобановскому определению) А. Трапезников («Литературная Россия»), откликнулась и «Независимая газета». А вот что написала выпускница Литинститута, автор рецензии в журнале «Наш современник» Е. Злобина: «Эта книга поразительна. Она вызывает шок. Представьте, что вы жили себе и жили долгие годы, думая, что всё происходящее вокруг – точно и верно. И вдруг оказалось, что всё это время на самом деле вы висели в пространстве вверх ногами и вдруг вернулись в нормальное положение. Читали-читали книги и журналы, будучи уверены в том, что имеете дело с литературой, – а оказывается, всё это время вам подсовывали пустые погремушки, в которых за шумом, трескотнёй фраз и расчётливым позированием нет ни мысли, ни глубины, ни художественной правды. Вот, одна настоящая книга – и горы литературного глянца, которыми вы напичканы, рассыпаются в пыль».
На сайте «Российский писатель», в альманахе «Артбухта» (Севастополь – Москва) отмечали лучшие писатели России и по содержанию, и по оформлению этот сборник, называли «более чем достойным…».
И, конечно, справедливо. Псевдолитературе, так называемым «Десяткам» (это явление – новые «десятки», новые «успешные писатели», вошедшие, по М.П., в дьявольскую систему обогащения, «а ля Д. Быков», с его, Быкова Д., – патологической «брезгливостью к жалости») – ответ им всем – чистой книгой: «В шесть часов вечера каждый вторник». Хороший урок! Как говорил сам Михаил Петрович, «есть литература и псевдолитература». И этой «новой», «демократической», денационализированной, авангардистской псевдолитературе (по его же словам) – конечно же, явно не по нраву пришёлся выход книги учеников Лобанова. Им глубоко ненавистны традиции великой русской литературы, неотделимой от этики, от духовности как основы слова, от постоянной социальной ответственности. Однако этот «междусобойчик», эти «стаи» «литературных дельцов» нынче стали запускать, загонять, определять даже и в вузовские, и в школьные учебники, о чём не раз писал М.П. Лобанов (в том числе в книге «Оболганная империя»[1]).
Но кто же широко прорекламирует хорошую книгу, настоящую литературу – и, как пример, именно «В шесть часов вечера каждый вторник» – да ещё, под редакцией самого М.П. Лобанова! – наше общее достояние. Почему не предложить эту книгу, нравственно выверенную, чистую, – для прочтения школьникам и студентам? Или «Болонская система» не позволяет? Почему не представить её на телевидении, на страницах других центральных изданий? Кто же на деле сегодня заинтересован в издании настоящей подлинной литературы? Кто даст «большому кораблю – большое плавание»? Как же безответственно, бессодержательно мы живём: нам Сальникова да Гузель Яхину подавай… Или Водолазкина…
Не скрою – дорого мне, что открывается наша «семинарская» книга и моим рассказом «Капитал», в котором, по слову Лобанова, «показана трагедия 90-х в истории семьи». Считая этот рассказ классическим, М.П. со свойственным ему великодушием назвал автора его «выдающимся писателем, который в наше смутное время ставит на место всех умственников, самодельных гениев» (в числе последних упоминал авторов пресловутой, раскрученной «Десятки», сборника рассказов, в котором, по замечанию нашего наставника, – «нет и намёка на серьезную жизнь»).
«О молодой литературе» – руководитель творческого семинара прозы М.П. Лобанов – из замечаний к последней книге «Убеждение»: «В этой книге рассказов студентов Литинститута «В шесть часов вечера каждый вторник…» – единство разнородных рассказов – разнородные авторы при цельности». И далее: «В этой книге представлены такие выдающиеся русские писатели, авторы среднего поколения, как Киляков, Серов, Богданов, Жуков…». «Совершенно не замечают выпускников Лит. института, таких, как Богданов, Жуков, недавно умерших, о которых писали в «Лит. Газете», современных коренных русских писателей (Киляков, Серов) среднего поколения – уже зрелых мастеров, тончайших психологов, мощной художественной изобразительности». Далее замета: «свящ. Вл. Соколов – о нищете талантливых писателей». «Священник Владимир Соколов в своей книге «Мистика или духовность? Ереси против христианства» (М., 2012), обоснованно выделяя проблему таланта в современном мире, пишет: «Талант всегда восходит, а бездарность падает, вовлекая в поток падения и окружающих. Восхождение же требует воздержания от соблазна – аскетического подвига, поэтому талантливый человек почти всегда лишенец: во-первых, развращённое общество из ненависти лишает его благ, во-вторых, – и сам он ограничивает себя в потреблении, ибо обилие и роскошь развращает дух, а в творчестве приводит к пошлости». «…Обновление жизни, в котором так нуждается сегодня мир, невозможно, если подлинно талантливые люди не займут центральное место в духовной, общественно-политической и культурной жизни человечества… (с.197–198)» (см.: Лобанов М.П. Убеждение // Наш современник, 2015, № 11. С. 244–256). «И нет более верного способа убрать писателя, публициста из строя борющихся, как замолчать его, заткнуть ему рот (выражение П. Флоренского). А это значит заткнуть рот самому народу, выразителем которого является талантливый автор». Зачем нынешней Москве сборник, составленный из дипломников Лобанова? Ведь в «споре о нравственности» книга «В шесть часов вечера каждый вторник» показывает именно внутреннее делание – а это бесспорно удар по «соросятам», по «шубинским» и «быковским» прожектам. Для непосвящённых поясню: в шесть часов вечера каждый вторник – Михаил Петрович Лобанов в Литинституте, в старом здании (бывшее имение Герцена) – вёл курс, давал уроки по мастерству будущим писателям. Преподавал студентам Литинститута, обучавшимся очно, и заочникам. Как говорил он, наш наставник, в слове для участников «презентации» сборника: «Пусть эта проникновенная книга напомнит вам в будущем весеннюю пору вашего творчества с его свежестью чувств, открытостью взгляда на мир, стремлением к чему-то высшему».
Лобанов был убеждён: «…признание, значение этой выдающейся книги только возрастёт со временем. Слишком она контрастирует, «ставит на своё место» господствующую ныне игру в литературе, агрессивность авторского самоутверждения, жизненную, духовную, нравственную немощь. Не важно, что не каждый из этих тридцати двух авторов (представляющих только последний период истории семинара – начало XXI века) “выйдет в писатели”, ведь главное здесь – убедительное свидетельство того, какое обилие молодых талантов, подтверждающих, что Россия, несмотря ни на что, жива, её творческая молодёжь противостоит злу и насилию, всему разрушительному, что русский язык по-прежнему объединяет людей разных народностей нашей некогда единой великой страны».
В книге, которая противостоит бескорневой «антикультуре» и которая вместила рассказы выпускников Лобанова: русских, башкир, татар, белорусов, украинцев – живут образы нашего времени во всём его многообразии. И тотчас с такой жалостью, до «судороги щёк» (по-есенински) вижу, вспоминаю учителя – и удивляюсь: вот, сегодня ищут днём с огнём русскую идею – как её определить? Ответ – в одном слове: «Лобанов»!
По Лобанову, мир внешний, мир грубой материи – требовательный и беспощадный. Но не этот мир грубой силы или власти – вовсе не он окажется решающим. Мир внутренний, невидимый – вот тайна, и смысл, и соль. Откуда же и как он пришёл к такому убеждению, как выстрадал уверенность: внутреннее – важнее и прочнее внешнего? И пронёс это убеждение через всю долгую, почти в целый век, дистанцию своей жизни… Здесь Тайна Благодати, которую он не держал за семью замками.