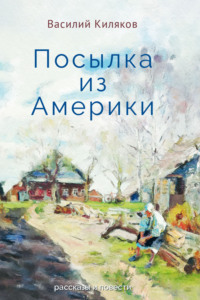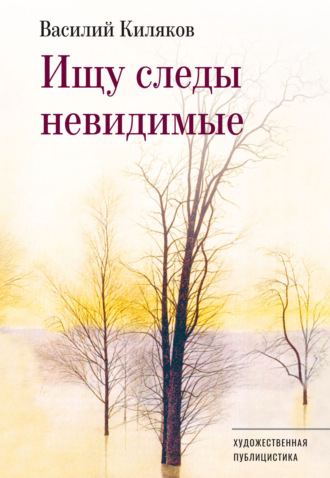
Полная версия
Ищу следы невидимые
Итак, у Сократа был свой «демон». У Ф. Сологуба – свой, у А. Блока – свой… И если некто, скорее всего, любимый Моэмом Мопассан лишь говорил только, что высшего совершенства художественное произведение достигает тогда, когда оно несёт в себе одновременно «и символ, и точное выражение реального», то и сам Уильям – как бы символ. Сам он едва ли не – знак. И всю жизнь свою нёс он «мавританский знак» – этот иероглиф своей неповторимой личности.
И вот, будто бы и в этой связи, случайно я сам прочитал в июньском номере газеты 1992 г. «Аргументы и факты» заголовок: «Кто вы?». А под заголовком – о́бразно и загадочно изображены шесть фигур, среди которых – квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, зигзаг. В это время я читал всё, что находил о Моэме, и этот «мавританский знак» его особенно заинтересовал меня, ведь что ни говори, – сколько тайн и загадок хранится под знаками и символами, под амулетами и прочей атрибутикой потусторонних сил. Вспомнить только амулеты А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, О. Бальзака, В. Шекспира. Многие мыслители видели в фигурах и амулетах и вовсе некое роковое послание, тайную зашифрованную подсказку, недоступную простому смертному.
Автор статьи «Кто вы?» – некто И. Панарин опубликовал названные выше шесть фигур, определяющих, «кто вы», в зависимости от выбора вами полюбившейся фигуры. Так вот, цитирую. «Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. Комбинирование различных, абсолютно не сходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального – вот что нравится зигзагам. Они никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. Зигзаг – самая восторженная, самая возбудимая из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая интересная мысль, он готов поведать её всему миру. Зигзаги – неутомимые проповедники своих идей и способны увлечь за собой многих».
Не думаю, что к статье «Кто вы?» можно относиться вполне серьёзно или полностью довериться определению характера и судьбы по какой-либо из фигур. Но для творческой личности Моэма фигура «зигзаг» подходит отменно: что ни говори, а книги английского классика живут и «способны увлечь за собой» и сегодня. (А, быть может, сегодня – особенно…)
…Православный человек сторонится всего оккультного, и всё же, как не признать, что много в природе нашей тайного, загадочного, символического… Впрочем, и Платон в аллегории в седьмой книге диалога «Государство» для пояснения своего учения об идеях в «символе пещеры» и «теней» не чурался мыслей о сокровенном и потаённом. И он тоже говорил о символах и о бесконечной ответственности перед «символом» («Государство» 7, 514–515).
1992
Восхождение на Синай
О себе: я самый обездоленный человек в России – у меня ничего нет, и самый богатый – мне ничего не надо. В этой связи: Диоген Синопский, писатель, философ (ок. 412–323 гг. до н. э.) – возможно, лишь легенда, созданная светлыми умами. Разделять ли максимализм Диогена, соглашаться ли с ним?
Выпады Диогена и высказывания его о человеческой сущности и самом существе человеческой натуры – не только удивляют, но и заставляют задумываться, сострадать. Читая о Диогене, взыскуешь справедливости. И тут уместно передать незабвенный диалог великого философа с Александром Македонским.
Однажды Александр подошёл к Диогену и сказал: «Я – великий царь Александр». «А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». Отвечая же на вопрос, за что его зовут собакой, Диоген молвил Александру: «Кличка мне – «Пёс», собака. Кто бросит кусок – тому виляю хвостом, кто не бросит – облаиваю, кто злой человек – кусаю».
Кредо философа-стоика не менялось до конца жизни: по́лное опрощение. Увидев мальчика, пьющего воду из горсти, Диоген выбросил из сумы свою чашку со словами: «Мальчик превзошёл меня в простоте жизни» (превзошёл меня мудростью).
Судьбе Диоген противопоставлял мужество, закону – природу, страстям – разум. Когда он грелся на солнце, Александр, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня чего хочешь». Диоген отвечал: «Не за́сти мне солнце».
В другое время и при других обстоятельствах сам царь Александр будто бы признался: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».
…В мире всё повторяется, но Диоген – неповторимая, легендарная личность. В конце концов, и хиппи, например, и не выдержали испытания временем. Их «философия» столкнулась с миром плотским – и разбилась вдребезги.
Многие философы твердят о том, что человек несёт в себе два «я», две ипостаси, два начала: животное и духовное. И вот вопрос: где, с какого времени, на каком пути нам внушили, что физическая, «плотская» часть – важнее? Где растерялись-разошлись эти два начала, с появления семьи, частной собственности, государства? Второе «я», нравственное, задержалось где-то на пути к Истине, к Богу…
У святых: тело – лишь лошак, который доставляет душу к Богу на Синай. Перекормишь – взбесится и скинет в пропасть, недокормишь, сдохнет по дороге – и не видать тогда сияющих высот духа, Синая…
Опрощаясь, облегчаешь путь душе, а кто легко ступает, тот далеко идёт.
1992
Тайны творчества
Многие тайны так и останутся «тайнами творцов». Непонятен и необъясним двойник у Мопассана, «надиктовывавший» ему, по собственному его, Мопассана, признанию, целые главы, написанные им нббело, без правки: страницы романа «Сильна, как смерть», очерки-записки «На воде»… Таков и таинственный незнакомец – у Моцарта, заказавший ему «Реквием»… Таков «Чёрный человек» Есенина… Таков опыт А. Блока, видевшего Прекрасную Незнакомку; загадочен и «Недотыкомка» – Ф. Сологуба – тоже таинственный, ирреальный, инфернальный даже, не позволявший автору «Мелкого беса» утонуть в бурном море при житейских невзгодах. Примеров множество…
Владимир Солоухин тоже унёс многие тайны, недосказал. Отпевали его в восстановленном при его живом участии кафедральном соборе, храме Христа Спасителя, первым после восстановления.
В.А. пытался всеми силами и способами ускорить возведение храма, торопил, помогал, как только мог, собирал средства, словно ощущал близость своей кончины. Его и впрямь отпели в недостроенном храме, и в этом тоже и тайна, и тоже промысел…
…А.И. Солженицын и нагнетание тьмы беспросветной – в его «Архипелаге…», замыслил эту самую тему он неспроста… Не всё ясно и в его писаниях, и в его биографии. (Теперь утверждают, что черновики его «исторического исследования» имеют весьма приблизительное отношение к правде. Они будто бы изготовлены были по тезисам из ЦРУ). Книга «Двести лет вместе (1795–1995) по исследованиям и архивам новейшей русской истории»… – и её возникновение тоже непонятно. А смысл, идея её… в чём? Попытка примирить большинство с очевидностью, то есть смирить население и убедить всех, кого обобрали (в итоге «приватизаций») до последней нитки, особенно государствообразующий народ, с тем, что так и должно было случиться? Или попытка примирить обнищавшее большинство с обогатившимся «внезапно» меньшинством, которое состоит в основном из людей пришлых?
…Книги Солженицына в «пользу» (мнимую) дореволюционной России, противопоставление исконной России – империи СССР – тоже тёмный секрет. И всё очевидней, заметней перекос от этого «сравнения» и идеализация жизни до 1917 года «в той России», которую мы потеряли. И это очевидно даже и для простого, неискушённого «подтекстами» читателя. Перспектива для России (по А.И.С.) отказаться от законных и исконных территорий в пользу «пара́да» суверенитетов, откинуть «подбрюшье», су́зиться едва ли не до размеров России шестнадцатого века – показалась ему привлекательной вовсе не случайно, и в конечном счёте это и было исполнено через форму его и ему подобных, по их геополитическим представлениям. Кем, какими силами? Останется тайной и до сих пор (как и то, кто именно через нобелевского лауреата проводил ту́ политику, которую озвучивал А. Солженицын).
Литература с давних пор пришита-«пристёбана» к политике. Политическая подкладка заметна и теперь, когда мы вспоминаем и «Не могу молчать» Л. Толстого и поэму «Двенадцать» А. Блока, и «Окаянные дни» И. Бунина…
Тайны многих писаний и судеб писателей никогда не разгадать. Истинные причины написания романа «Мать» Горького (самого влиятельного писателя России за всю советскую историю) – неведомы. И даже история романа «Как закалялась сталь» Н. Островского – и та сокры́та.
Таинственность – покров не только писателей, но вот даже и композитора (и писателя) Георгия Свиридова… А. Панарин, русский философ, не оценен до сих пор в должной мере, и его уход, и само его предвиденье нашего времени, и его предупреждение для нас подготовиться и укрыться от ветро́в и сквозняков «глобализма», пронизывающих шар земной, – тоже удивительны. Как он услышал, понял многое, только ли наитием?
Многое из «случайного», предсказанного М. Лобановым, А. Панариным, – сбылось, и тут тоже тайна, их прозрения – на полвека вперёд, по меньшей мере. Явление тайны. А Благодать, которой был причастен М.П. Лобанов, когда он едва не ушёл совсем молодым, страдая, ослабленный, от послевоенного туберкулёза в Ростове, – тоже тайна из тайн и откровение, которым он благоговейно поделился с нами… (Он рассказал об этом в книге «В сражении и любви»: опыт духовной автобиографии». М.: Ковчег, 2003).
…В жизни и в творчестве самое главное и единственно ценное: духовное и душевное состояние автора. Без этого нет и не может быть подлинной литературы, она сползает тогда до забавы, фиглярства, позёрства, пустого времяпровождения. Как работали крупные авторы? Что вело и влекло мысль их, как именно искали они свои пути общения с Творцом, который через «двойников» или напрямую «надиктовывал» им… Кого-то вела Благодать, кого-то, напротив, гордыня, или волевой напор, как тех же: Р. Киплинга, Д. Лондона, Э. Хемингуэя. Кого-то мучили страсти, страхи…
У Владимира Солоухина читаем о методах работы творцов, вызывавших восторг, вдохновение. Едва ли не простыми пассами и заклятиями некоторые из писателей могли будто бы, умели приручить и оседлать Пегаса. «Кто-то из великих французов, – пишет Солоухин, – заставлял запирать себя в кабинете, кого-то слуга привязывал к креслу верёвками и уходил на полдня. Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой. Бальзак непрерывно поддерживал себя крепким кофе». Добавить сюда слухи о том, что по легенде не́кто из великих драматургов нюхал гнилые яблоки, чтобы ввести себя в состояние экзальтации, близкое к тому, что называют вдохновением, и добивался успеха… А.Н. Толстой во время писания много курил табака – трубки любил, по собственному его признанию, «вкусные», форм самых причудливых. Табаки мешал пополам с сухими антоновскими яблоками. «Лучшие – трубки вишнёвые (из дерева вишни), кривые вкуснее», – признавался автор романа-трилогии «Хождение по мукам»…
Он собрал большую коллекцию курительных трубок, предпочитал крупные, с изогнутым мундштуком, с сортами табака «Золотое Руно» (для запаха) и нарезкой, как уже говорилось, сухих антоновских яблок… Бальзак написал целый трактат о воздействии наркотических веществ на процесс творчества… Вот что говорил Россини:
«Кофе, который пьют простые смертные, оказывает действие на них всего две-три недели. По счастью, этого времени достаточно, чтобы написать оперу»…
А дальше как быть? Не писать? Постепенно повышать дозу, крепость? Бальзак так и делал. Бальзак – о кофе и возбуждающих средствах: «И тогда всё приходит в движение. Мысль начинает перестраиваться, подобно батальонам Великой армии на поле битвы, и битва разгорается. Воспоминания идут походным шагом с развёрнутыми знамёнами, лёгкая кавалерия сравнений мчится стремительным потоком; артиллерия логики спешит с орудийной прислугой и снарядами; остроты наступают цепью, как стрелки́»… Заманчиво, не правда ли? А вот что добавляет, комментируя Бальзака, Андре Моруа: «Сло́вом, бумага покрывается чернилами, подобно тому, как поле битвы окутывается пороховым дымом. Книга входит в строй, сердце писателя выходит из строя» (А. Моруа. «Прометей»).
Последние дни Бальзака горьки.́ Особняк, обставленный для Ганской – последней любви пятидесятилетнего несчастного, парализованного писателя, остался холоден и угрюм. Гюго – о последних часах жизни Бальзака: «Когда дом построен, в него входит смерть…» Кофе сжигает жизнь, как сказочную шагреневую кожу – так же сжигают желания и страсти и самого Бальзака. «Подхлёстывания» (по выражению А.Н. Толстого) самого себя допингом даром не проходят. И в этой связи – философы древности: «Ничего сверх меры» (Хилон).
Великий романист, драматург, эссеист Бальзак, наблюдая человеческие страсти, создал шедевры литературы и тем покорил сердца читателей. Сам автор «Гобсека», «Отца Горио», «Евгении Гранде» носил в своём сердце величайшие противоречивые стремления и был настоящей загадкой для современников (да и для нас, сегодняшних). Как мог он столько создать, опубликовать романов, блистая в свете и лишь по ночам, без сна, работая? Пятьдесят один год жизни, а столько успел…
…Но и само сотворение этого мира остаётся навсегда великой тайной для нас. Самая главная (и важнейшая из загадок) – сотворение мира до сих пор за семью печатями. А если бы знали люди тайну творения и со-творения мира, эту тайну из тайн, то многие наверняка жили бы вовсе не так, как живут, а жили бы по-другому, не так легкомысленно и легкодумно.
Целый сонм живших на земле и ушедших (куда?) – великая тайна творения. Да и само сотворение человека, сопряжённое с творчеством его как мыслителя и художника на земле, – всё это загадки одного порядка, неисповедимые, неотмирные…
1992, 2003
О гермафродитах и Афродите
И.А. Бунин, академик, лауреат Нобелевской премии, записал в своём дневнике 17 марта 1940 года: «Перечитал «Что такое искусство?» Толстого (запись о Л.Н.Т.) – скучно, кроме нескольких страниц – неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привёл сотни определений того, что такое красота и что такое искусство – сколько прочёл, какой труд проделал! – все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного».
А вот сборник рассказов японского классика Акутагавы Рюноске «Паутинка», статья «Толстой», цитата: «Когда прочитаешь «Биографию Толстого» Бирюкова, то ясно, что «Моя исповедь» и «В чём моя вера» – ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказывавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных».
Такие суждения, рассуждения, мнения авторитетов обескураживают, когда изучаешь, что написал Л.Н. Толстой. Об «Анне Карениной» услышал однажды от знакомого литературоведа-преподавателя в Литинституте: «пошленький роман в пасте́льных тонах…» О последних главах «Войны и мира» Гюстав Флобер отзывался неодобрительно…
Очевидно, надо полагаться только на себя, доверять только своему чувству, не обращать внимания на высказывания филологов, пусть и авторитетных. Прав был У.С. Моэм, заявляя: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нём активное отношение к жизни». Если так, то Дж. Лондон – ярчайший тому пример, так будоражит он волевое начало. А ведь он весь вырос из Шопенгауэра, из его «упадочной философии», «философии пессимизма», и весь он образец протестанта, пропитанного духом и смыслом наживы и верности немецкому целеполаганию.
…Немец, философ Артур Шопенгауэр – тёмен, как обратная сторона Луны. Перекроил на свой лад, «перевари́л» по-своему древнеиндийскую философию брахманизма, буддизма, «переосмыслил» Канта… – а чуди́л, порой вовсе не как мудрец. Да так, что сам уверовал в истинность своих причуд. (Рассуждал весьма спорно и пространно, подгоняя смысл жизни и замысел о мире только лишь под свои собственные интересы и биографию, – а, забывшись, самими деяниями, делами же – противоречил своим умозаключениям).
Образ мировой воли видел как парение душ во вселенной (метафора радуги над водопадом), не предполагая Того, Кто мог быть создателем и наблюдателем этого водопада и радуги. Говорил и писал о «горестях и ничтожестве жизни», а сам отчаянно бегал то́ от оспы, то́ от холеры, сберегая своё «ничтожное» существо. Да так, что останавливался на постоялых дворах категорически только на нижних этажах, опасаясь паники и давки толпы в случае возможного пожара. Рассуждал о бессмертии, в то же время отвергал существование Бога. (Даже кичился безбожием). И так, в быту, едва ли не во всём. Уверял, например, что богатство не в пример здоровью, ничего не стоит и не имеет никакого смысла, а сам при том при всём спал с двумя пистолетами под подушкой, охраняя добро, дабы предупредить возможное нападение и грабёж. (Был готов в любую минуту к попытке отразить покушение, которого так ни разу и не случилось во всю его жизнь, и в то же время зорко следил за отданным в рост капиталом, доставшимся от отца). Несчастливый в любви и неприметный для женщин, он сделал заключение о том, что только идиот, «только отуманенный похотью мужской рассудок может называть низкорослый и узкоплечий и широкобёдрый пол прекрасным»… Перечитывал то и дело множество книг, и «Упанишады», и «Веданты», и Канта, прекрасно знал немецкий романтизм и многое иное ещё (особенно из древнеиндийского эпоса), а сам, имея огромную библиотеку, – не рекомендовал читать вовсе никаких книг, ибо они мешают мыслить самостоятельно, независимо.
…Подобно гермафродиту, он в нравственном отношении – и рождал, и рождает до сих пор своими писаниями некие тени, флюиды и порхающие, самых причудливых форм некие фантомы, подобные тем, которые изображены на офортах Гойи. От усилий его мысли и с его подачи – и многое у пасынков его: это и Вл. Соловьёв, и Ф. Ницше, и всё тот же Дж. Лондон, и даже Адольф Гитлер… Всех и не перечесть. Не просто бывшие и ушедшие, а некие идеи, непонятные и до сих пор.
В противоположность мнению завзятого «волюнтариста и пессимиста» – для философов элейской школы – именно красота мира и бессмертна, и непостижима. Например, Афродита – само воплощение красоты, она же запечатлена в статуе «Венера стыдливая». И даже один только поворот плеч её – сам по себе тайна из тайн, загадка («как идея» по-Платоновски, сокровенный покров женского очарования). И тут они срастаются с той красотой, о которой Ф.М. Достоевский говорил, как о единственно возможной «совестливой» красоте, способной остановить мир даже на краю пропасти.
В собрании стихотворений Н.А. Заболоцкого есть превосходное стихотворение «Некрасивая девочка» о «дурнушке»-подростке. Стихотворение такое обыденное, на первый взгляд, – «расшифровывает» великую догадку Ф.М. Достоевского о красоте, той именно, которая одна только и способна «спасти мир». И – это красота от Бога, Божья. А вовсе не холодная гармония, состоящая из пропорций, подчинённая «золотому сечению» или «числу пи». И гармония сама – ничто́ в сравнении с нравственной красотой Истины (продолжая мысль Ф.М.Д.).
«Мир красотой спасётся…» – писал Фёдор Михайлович во время работы над романом «Идиот» поэту и цензору Аполлону Майкову. Уверен, что он имел в виду красоту ту́ только, – которая вполне бескорыстна. Она не внешняя, а «предметная» (говоря словами М.П. Лобанова), и прежде всего – внутренняя, красота сердечного наполнения. Та, которая (по Н. Заболоцкому) – «огонь, мерцающий в сосуде».
Нравственная, «стыдливая» красота непостижима «рацио», но разве не достижима, не видима ли она сердцу? Чарующая красота – само творчество – тайна. И стремление к такой красоте – вожделенно. Это «загадка сфинкса».
Понимание такой красоты необходимо выстрадать. И всё же только ею одной, «невидимой», стыдливой красотой Афродиты и спасётся мир. И только она одна и способна сохранить, и удержать человечество даже на самом краю. (Спасёт такая тайна, даже и стремление к такой красоте).
Здесь даже и не столько сфинксова загадка, а здесь, быть может, и разгадка самой тайны Творения.
1993
Ностальгия
Дорога чёрная без цели, без конца.Толчки глухие, вздох и выдох,И жалоба колёс, как повесть беглецаО прежних тюрьмах и обидах…–– —А на столе увядшие цветы,Их спас поэт от ранней смерти.Этюдники, дырявые холсты,И чья-то шляпа на мольберте.–– —Никогда я не был русофобом,И завистливым я не был никогда,У поэта есть судьба за гробом,Милосердье Божьего Суда…Первые четыре строки я прочитал и выписал у В. Набокова из стихотворения «В поезде». Вторая строфа – из автобиографических повестей «Трава забвения», «Святой колодец» В. Катаева. И вот в этой «траве» молодого Катаева поразил эксперимент Ивана Алексеевича Бунина, а именно та лёгкость, с которой он, Бунин, написал стихотворение (по воспоминаниям Катаева). Случилось это на даче художника Фёдорова: сел и написал экспромтом в назидание молодому Катаеву Валентину Петровичу – краткие и точные строфы. Художника и поэта Фёдорова они не дождались (Бунин и Катаев), тот так и не пришёл. Стихи родились на удивление яркие, запомнившиеся и в пример «творческого метода» молодому тогда литератору (Катаеву), и тот привёл сей случай в автобиографических повестях.
…А последние четыре строки написал ваш покорный слуга, за одну минуту, – так «зацепили» и Набоков, и Бунин – русским чувством, любовью к Родине. Вовсе не хочу сравнивать себя ни с Набоковым, ни, тем более, с Буниным: они, что называется, аристократы дворянского русского духа – в той редкой его чистоте, которая идёт от традиций.
…Сегодня вновь перечитал стихотворение Набокова «В поезде», и такая радость, и грусть, такое сложное чувство охватило! И вспомнилось то состояние душевного и духовного непокоя, то отчаяние, которое измучило до предела меня самого, когда волей-неволей пришлось жить в Германии, тосковать о родине. И перечитывал снова и снова:
Я выехал давно, и вечер нероднойРдел над равниною нерусской,И стихословили колёса подо мной,И я уснул на лавке узкой.Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,и, окружённый тряской бездной,очнулся я, привстал, и ночь была душна,и замедлялся ямб железный.По занавескам свет, как призрак, проходил.Внимая трепету и треньюсмолкающих колёс, я раму опустил:пахнуло сыростью, сиренью.Была передо мной вся молодость моя:плетень, рябина подле клёна,чернеющий навес, и мокрая скамья,и станционная икона.И это длилось миг… Блестя, поплыли прочьскамья, кусты, фонарь смиренный…Вот хлынула опять чудовищная ночь,и мчусь я, крошечный и пленный…Вновь и вновь вставали в памяти моей русские вечера, равнина наша русская, и так вдруг прочувствовался этот экспромт и «состояние момента», «попадание в самый нерв»: нерусские картины, разворачивающиеся за окном, нерусский поезд, узкая лавка, а чувство – русское. Уверен, что такие стихи не вытаскиваются, не высиживаются за столом, льются сами. Это – то, что не может не родиться в душе настоящего, а не «записно́го» и именно и только русского в связи с обстоятельствами, переживанием. Это русское бесценное чувство так понятно теперь мне самому, после странствий по Германии. Набоков пронесёт это чувство сиро́тства на чужбине через всю жизнь: «плетень, рябина подле клёна, чернеющий навес, и мокрая скамья, и станционная икона».
Пожалуй, не найти писателей и поэтов XIX века, так органично перетекающих, «перелетающих», перешагивающих из прозы в поэзию и обратно, как Бунин и Набоков. Оба они – поэты в прозе и прозаики в поэзии. Эти скитальцы, странники от дворянства увезли с собой в Европу русский дух: дух черёмух в запущенных оврагах, полевые пожары зорь, увезли и об́ разы, просторы и дороги, проросшие травами, запущенные – сплошь в васильках и повилике. Зреющие хлеба, ранние печальные звёзды ввечеру и чадящая долго-долго от ветра дорога – пылью… Средин́ ная Россия.
Так и не стали европейцами они, эти дворяне, и умира́ли не в своих углах: Набоков – в Швейцарии в «Палас-отеле», Бунин – в наёмной квартире на улице Оффенбаха во Франции. Что может быть мрачнее, трагичнее, загадочнее смерти в чужом углу – не в своём доме, не на Родине. Умереть на рваных простынях отеля или в маленькой комнатушке в Ницце на жалкой кровати, похожей на старую утлую лодку, унесённую в открытое море… Так и окончил свои дни Нобелевский лауреат И.А. Бунин, часто повторявший в эмиграции: «Моя бы воля – по шпалам ушёл бы в Россию»…
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,И лазурь, и полуденный зной…Срок настанет —Господь сына блудного спросит:«Был ли счастлив ты в жизни земной?»И верно, так и хочется спросить: счастлив ли был Иван Алексеевич Бунин? С юных лет – мотался неприкаянно по югу России, затем – Иудея, Яффа… Малайзия, Турция, Греция… Был в Египте, Швейцарии, Германии, Франции. Чемодан с наклейками, элегантный костюм, «несокрушимые» ботинки – вот и всё имущество. И умер, если верить печатному слову, свидетельствам сопровождавших его до конца, – в запущенной квартире небогатого француза именно «на рваных простынях», как вспоминал впоследствии писатель Борис Зайцев.