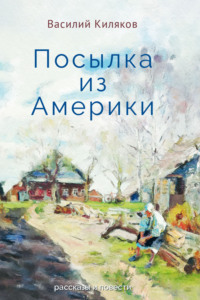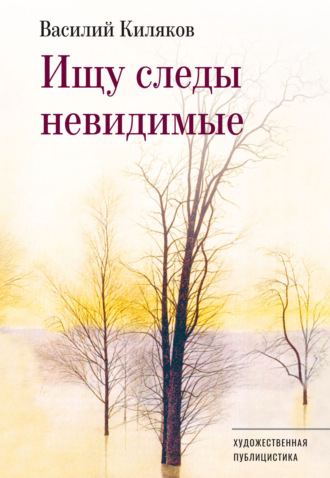
Полная версия
Ищу следы невидимые
Теперь компьютер на основе программ «Дракон», «Змей Горыныч» – распознаёт и различает письменную и устную речь живую. Речь на многих языках, уверенно и «впопад» отвечает на вопросы, ведёт несложный диалог. И всё же мыслить и создавать образы самостоятельно, ответственно, сознательно, интуитивно – жестяное чудо техники не в состоянии. И путаться, и страдать, и сердце вкладывать в музыку и в литературу – не может жесткий диск компьютера, обременённый оперативной памятью. Такой программы «оживления невещественного» не изобрели покуда, и не изобретут никогда. Живые нейронные связи невозможны в «мозге» электронном. Так и литература не «постмодерновая», не составная-сленговая, а подлинная, на основе пережитого опыта, прочувствованная – возможна только от живого сердца (и то же – и музыка). И программу, которая научит всё тот же компьютер переживать в страданиях, изощрять и утончать то́ сердечное «чувствилище», которое и само в свою очередь напрямую общается с «высшими запредельными сферами», – тоже не изобретут никогда… Программы, которая зрит Бога Самого, нет. И не может заменить тончайшее «сердце человеческое», через которое, по слову Достоевского, воюет с Богом тёмная сила, – некое устройство или о́рган. Не появилось и, конечно, не появится и в будущем даже, и никогда, такой механизм.
Так что же предлагает нам, чем запутать желает нас вновь цифровая система, двоичный код от Готфрида Лейбница, и что подскажет ещё раз через «премудрость премудрых мира сего» да и тот ещё, быть может, кого называют «обезьяной Бога»? Не мо́рок ли эти надмевания и извороты мысли, не мираж ли очередной, не марево ли, кипящее хрусталём, обманное, призванное убаюкать, заманить в ловушку и саму гордость человеческую да потешиться?
…«Я только Божья дудка», – повторял С.А. Есенин. И до сих пор тайна, кто же на деле говорил через сердце поэта с этим миром, со всеми его поклонниками-читателями, через века? Сердце должно быть живым, горячим; процессор, пусть даже и изощрённый, с применением новых нано-технологий из Сколково ли, из Кремниевой ли Долины, из плазмы огненной, из полимеров, из ароматических углеводородов и проч., и проч., – всё-таки блеф, тупик. Ведь даже и фото́на не выделил, не определил андронный коллайдер, нисколько не прояснились и догадки по поводу «чёрной» материи… «Механизм», даже такой сложный, как компьютер, не может быть ни Божьим любимцем, ни Божьим избранником. Через мёртвую материю Бог не участвует в диалоге. (Не потому ли, как замечено было, например, М.П. Лобановым, поистине не найдёшь тайны бытия, «двойного, тройного дна лирической речи» и в таких, расчётливо сделанных, подогнананных «рождественских стихах», как, скажем, у Бродского: «Таков механизм Рождества»). Голой техникой и умением тут не возьмёшь…
…Удивительно – если проследить судьбы великих, судьбы гениев, – и впрямь посещает мысль: как «странно» Создатель обошёлся с ними, едва ли не со всеми. Зачастую они получали укол, удар, переживали невыразимую боль, утраты, потери – и лишь затем – буйное цветение их таланта; пышно, причудливо, невообразимо… А завершающая часть их жизни – пусть и немногих, даже и «Реквием», как бы и вообще была не интересна Творцу, оттого – и трагический их уход. Едва ли не каждого…
…Гроб Эдгара По сопровождали… девять человек. Уильям Сидни Портер (О. Генри) был похоронен сорока семи лет на тюремном кладбище. (Мопассан сошёл с ума, Гоголь уморил себя голодом, Акутагава Рюноске отравился вероналом, тело Чехова было доставлено к похоронам в вагоне из-под устриц…). И все были молоды, им не было и сорока пяти. Ни Моцарт, ни Шопен не дожили и до пятидесяти. Многие таланты – даже и до сорока лет не дотянули. Похороны по третьему разряду за восемь гульденов тридцать шесть крейцеров… И – даже жена не проводила гения Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Теофила Моцарта, австрийского композитора, капельмейстера, скрипача-виртуоза, клавесиниста, органиста и т. д., и т. п. – в последний путь, и похоронен был он в общей могиле.
Могилы многих, даже и Моцарта, так и остались неизвестны. Между тем всё же не они со всей их гениальностью, а одни только молитвенники, праведники – единственные защитники рода человеческого, хоть те и другие – найдут, вероятно, определённое оправдание своему существованию среди целого сонма людей – и живших, и живущих под Небом. И Создателю ценны и те, и другие, и – в призрении, без сомнения, в Божьем окоёме, в виду Бога Самого, в вечности драгоценные души их нашли пристанище.
Небо милует и нас (и всех прочих) за одни только заслуги избранных – через них, и единственно по их трудам. За чудо их молитвенного творчества, за их скорби и жертвы. (Что говорить, даже и Ветхозаветный Содом мог бы выжить единственно заступничеством праведника Авраама. «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то прощу всему месту из-за них». – Бытие 18; 23). Таковы молитвенники-философы: Блез Паскаль и Фома Аквинский, таковы святитель Игнатий Брянчанинов, игумен Никон Воробьёв, писатели С.И. Фудель, В.А. Никифоров-Волгин и врач, св. Лука Войно-Ясенецкий… И эта загадка останется с нами, «доколе жив будет хоть один пиит», точнее – хоть один молитвенник.
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель – это А.К. Толстой. – Вечно носились они над землёю, незримые оку»… Что это? Признание? Открытие века девятнадцатого? Интуитивная находка или просто красивые слова?
…И вот новый рассказ мой закончен. И вновь – сомнения, раздумья, иногда – и тоска. Компьютер забит «информацией» с «ютуба», с аудио- и видеопродукцией – всего в изобилии. И всё так перемешано!.. И только имеющий опыт, вкус, свой интерес сможет выбрать надёжное и душеполезное, выстроить речь и мысль, а как же остальные? Да ведь и тот, который умеет выбрать, с его знаниями, тактом и вкусом – не соблазнится ли и он лёгкостью «бульварного чтива», «жёлтого» мишурного блеска, игрой сусального золота, увлекательной раскадровкой или корыстью-заработком, не продаст ли способности свои – за звонкую монету?.. Не спутает ли он блеск осколков битой бутылки с блеском изумруда? А сколько искушений, и тем больше, чем совершеннее техника: компьютерная и прочая.
«Так что же такое: художество, литература, творчество?» – как не задуматься. Откладываю рукопись и рассматриваю библиотеку. И нужна ли кому-то такая «рефлексия» живого – по живому – и в жизни, и в литературе… Этот долгий и мучительный настрой на некую «Божью волну» – тоже загадка. Противостояние пошлости, неверию, даже и просто неграмотности, наконец.
Пещерный период наскальных рисунков давно, до нашей эры сменился периодом статуй, от язычества, затем – веком русских икон, затем приложены были и книги – «к вере» («люди Книги», так называли издревле христиан). И тогда влияние на душу человека утроилось, удесятерилось. За книгой пришла пора художественных фильмов и радио, которое сменило такое расчётливое теперь и падкое на прибыль от рекламы TV… Но с девяностых годов двадцатого века – всего лишь за десять лет! – все неисчислимые нарабо́тки тысячелетий, «настройки» человеческого духа, души – на волну таинственного и величественного сменились плоской технократией. Духовные поиски Неба подходят к завершению, несомненно. Многое заменил, а частью сменил «симулякр» нашего подлинного бытия – тот же самый компьютер. И вот – теперь едва ли не всё поглощено его оперативной памятью. Друг он или враг?
Сегодня большая часть человечества – ищет развлечения, другая – ищет удовольствий, страха, испуга, адреналина. Третьи – смехачества и сменовеховства… И всё меньше и меньше избранников, этих адептов высокого, этих «адвокатов» перед Богом за людей. Катастрофически мало (по сравнению с прошлыми веками) теперь тех, кто обращён взором – к Небу. Ещё меньше тех, кто ждёт и понимает, и слушает слова молитвенников, – а через них – и музыку самого Неба. Век секуляризма, прогрессизма, индифферентности, релятивизма – век предвзятого отрицания любых традиционных религий. Кто сегодня способен различить: «кто есть кто»́ и «что есть что»́? Катастрофически мало причастных истине, но зато неисчислимое множество умелых технократов.
…Проходят дни, месяцы, годы, в течение которых не покидает порой чувство причастности ко всему живому, чувство какой-то обязанности всем и всему сущему на земле, чувство какого-то недовыполненного долга. И вот теперь уже не стремление к удовольствию, не потребности «насущные»: жгут душу, а именно – чувство долга, того не́что, что не сделано, некоего недоделанного дела. Так, верно, породистый тяжеловоз всей мощью своей безотчётно грустит по тяжёлой повозке, а птица – по встречным ветрам и простору.
Как безупречно мудро говорит строка евангельская: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора», и – повторено даже И.А. Буниным в одноимённом его стихотворении. «Человеку же некуда приклонить голову». Это чувство долга и «неуюта» – не радует и не удивляет, а направляет к письменному столу для того, чтобы переосмыслить увиденное, пережитое. Радует работа за столом над чистым листом бумаги – крайне редко, чаще – мучает невозможностью высказаться точно и до конца, и тем одним – освободиться. Заставляет это чувство работать, писать, набрасывать мысли словесно, зачёркивать строки и строфы, сжигать – и вновь возрождать. И тогда находишь в книгах ответы на свои вопросы, перебираешь мысли древних как бриллианты: перекличку Саади и Эпиктета, мысли их, иногда похожие, но отдельные, независимые, – а с ними и свои приходят чередой, и свои раздумья разнообразят, раскрашивают жизнь мою. Счастлив тот, кто не скучает в одиночестве и рад досугу!
Иногда удаётся что-то уяснить для себя и опубликовать, и тогда – обретаешь знакомое ощущение честно выполненного долга, завершённой работы, и удивляешься тогда «похожести» созвучий. А гении – те ощущали прямо-таки потребность работы – легко ли давался им труд? Едва ли не все они пом́ нили, понимали тончайшую грань между «Божеским и человеческим», грань между бытием и небытием, которая служила им источником и мук, и вдохновения, радости и тоски. И это не утверждение, а вопрос. Ответ ясен: «прежде всего».
Для гениев бытие само – острее бритвы, они стоят «пятками над пропастью», всю жизнь, долгую или короткую, и видят Небо над пропастью. (Чаще всего – жизнь короткую). Об этом у Пушкина, переменчивость: «вошёл – и пробка в потолок», и далее – «…и пусть у гробового входа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных»…
Страх смерти у Амадея Моцарта… И у больного чахоткой, кровью харкающего в дорого́й платок за игрой на рояле задыхающегося, больного лёгкими – Шопена… И всё же думаю: сердца молитвенников, а не актёров, не писателей, не скульпторов – бесценны перед Ликом Божьим. Только их чувствилища обладают качеством не только «подключаться» к Небу, а – и зреть высот́ ы, и жить в Небе, и с Небом. А способности людей искусства, искуса – препровождать к катарсису и будоражить зрителя, и читателя, и слушателя, – очень и очень кратки, порой невер́ ны…
Жертвы молитвенников за Мир Божий – суть жизни не проводников даже, а подвижников, праведников. И когда понимаешь это, какая одолевает радость. Особенно от прочитанной хорошей книги житий, агиографии, песнопений хоров, например, под управлением М. Мор-мыля… Музыка Рахманинова, Свиридова, Чайковского – больше язык чувств. (А светская мирская жизнь петляет как заячий след). Живя, читая классику, забываешь себя. Сохраняя в повседневности память и причастность этому миру, – безотчётно понимаешь, что одно лишь только оправдание писательству, творчеству – бескорыстие. И живёшь всегда надеждой, что пройдёшь все тропы, на роду написанные, до конца и доберёшься до самой вершины, до самой последней холодной высоты своего Памира. А высота эта не в миру́.
…Доруги наши ведут к вершинам сияющим, хоть и разбегаются пути извилисто и врозь, – все на этой земле идут-тянутся (кто волей, а кто неволей) узкими горными каменистыми тропами по-над высокими кручами. И книги святых отцов Православной церкви, книги классиков – как снаряжение альпиниста в подмогу нам, хоть и не всем. Все мы в пути.
Благослови, Отче, каждому одолеть высо́ты и добраться до своего Памира, взять свою абсолютную высоту.
1983, 2022
Конец – делу венец
Если судить о содержании по существу жизни, по множеству препятствий, по скорбям, по боли, по путанице, похожей на сети широко раскинутые, и всяческим перипетиям, которые, собственно, и есть наше существование, – то приходишь к выводу: одна из главнейших целей человеческого бытия – в воспитании стойкости, в тренировке воли. Терпение и смирение – тоже качества, о которых чаще всего упоминает Церковь. Не податливость и не слепая покорность, вовсе нет, и даже совсем напротив. Признак нравственной зрелости, следствие воспитанной, готовой уже воли – выбор направления нравственного движения души, способность к исполнению Божьих повелений (которые необходимо ещё услышать, распознать), сло́вом полнота личности – определяется приятием Промысла, добровольным согласием с ним – то есть способностью к отсечению своей собственной воли.
Готовность и умение терпеливо выносить ежедневные тяготы и скорби – вот величайший героизм, а, быть может, и сама цель нашей жизни. И не только для монаха, а и для мирянина тоже. Не «прыжок веры» некий абсурдный, не минутные восторги скоропреходящие, а именно – и только высота духа, попытки и само стремление удержаться на высоте. И вспоминается в этой связи, то, как желал́ и и даже мечтали «пострадать» старцы, особенно перед уходом в мир иной, говоря и повторяя: «Нет скорбей – значит, Бог забыл» или «Конец – делу венец».
…Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли…) в том, что они полагают меру великой силы воли – в проявлениях своей власти и победах над другими. Главный же показатель созревшей воли христианина – способность побеждать прежде всего себя самого, свои страсти: «Победа из побед – победа над собой».
Но для чего Богу волевой человек? Не значит ли это, что Богу нужен воин? Не генерал, не майор, не управленец чужими душами, а именно солдат, рядовой. В таком случае, каковы же условия существования «там»? Если твёрдость, вовсе не мягкотелость, а именно и только жёсткость по отношению к себе, надёжность и крепкая воля – первейшие качества, необходимые для жизни с Богом в пакибытии, в «иномире»? Не значит ли это, что некое благолепие и беспечность Рая – пустые выдумки, если, как видим и понимаем, в «иномире» Богу необходим только сложившийся, сильный человек. Не расслабленный и благостный «нюня» – но (повторю, чтобы усилить) креме́нь, истый воин, твёрдо доверяющий своему Военачальнику в Духе и полностью отдавшийся на волю Его.
Это обстоятельство хорошо понимали первые христиане, именно отсюда – и тяжкий, и ежедневный их труд, памятование о Боге и бренности жизни, и благодарность их за угнетающие тело болезни, напасти, – ибо только они и воспитывают волю: добровольные вериги. «Гнету гнетущего мя», – и юродство праведников и мучеников тоже отсюда. И стояние с молитвой на камне, на столбе (столпники), и бесконечные бдения и самодвижная молитва Иисусова. Да и смерть сама, наконец – как последний сдаваемый экзамен, самый жёсткий, бесповоротный, единственный, «без права на пересдачу» – особенно.
Если всё так, то тогда становится понятно вполне, почему самоубийство – презираемо в Православии. Этот грех оттого неотмолим и приравнивается к хуле на Духа Святого, что самовольный уход – это несомненный незачёт по экзамену: «жизнь» и сильная «воля». «Неуд», отказ от сражения, бегство с поля боя – не прощается Главнокомандующим. Часовой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпимо морозно или страшно от приближения врага, – такой солдат не годен на следующую ступень. А следующая ступень – бытиё души в иномире. Новый уровень «жизни души» такой «воитель» не может одолеть. Взойдёт на ступень выше только лишь мужественный. И эта жизнь «по ту сторону» несомненна, она только и есть подлинно бытие. Существование здесь – лишь подготовка – к миру иному, «тому́», ради которого человек живёт в теле здесь. Иначе, зачем мытарства, да к тому же те из них особенно, которые здесь уже начинаются. К чему и – тягота от них. Разве не каждый ощущает здесь уже́, на земле, «как опасно ходим» среди искушений.
Все рассуждения о том, что «мир абсурден» будто бы, что мир – «жестяной барабан» по Г. Грассу (по Камю, Шопенгауэру и так далее), «барабан» – вместо «трубы Иерихонской», и ему (вроде бы) нет до нас никакого дела, этому миру стихий и хаоса, – как нет де́ла ветру вешнему до случайной цветочной пыльцы. Так полагать – было бы смешно и наивно. А коли так и впрямь, значит, настоящая борьба – не здесь, а именно «там». Именно там и ждёт каждого жестокий бой, и подлинно сражение. И вовсе не благостное существование. На земле же и сами страдания всего лишь только преддверье. Нужна подготовка, закалка. И намерение, которого не миновать человеку содержательному, не легкодумному (о Боге). Жизнь – тренировка перед настоящим сражением.
…Борьба «там», похоже, – намного сложнее, чем испытания здесь (раз «туда», в сферы Духа, отберут только достойно выдержавших трудности здесь, в этой нашей земной юдоли печали). Отсюда и вывод, что и духи злобы поднебесной – вовсе не выдумка досужих бездельников. И существуют, несомненно. И они тоже готовы к атакам и контратакам. Вредят и мешают всем тем, и особенно тем, кто тренируется к главному сражению. Ведь это сражение – именно с ними.
Не случайно: святые в Православии не только выдерживали бои уже здесь, в реальном мире, но (напомню) даже и усложняли свой подвиг: выносили кованые вериги, кромсающие плоть даже до крови, держали пост, бдение, практиковали исихазм; добивались самодвижной постоянной молитвы (то есть внимали к голосу Главнокомандующего ежесекундно, угадывали и всегда искали Его святой воли).
…«Верный воин Христов» – говорят о молитвенниках, схимниках Православной церкви и о прославленных во святых. Вся наша жизнь, без сомнения, только лишь подготовка к главному экзамену, к венцу.
2001
Зигзаги судьбы
Когда, читая, изучаешь жизнь на чужом опыте, сопереживаешь писателю, – находишь за бегущими строчками нечто особенно важное, новое, порой загадочное, кажется, видишь внутренним зрением некие символы, «знаки», некие приметы, – это «нечто» таинственное, за словом хоть внешне и сокрытое (но тайно определённое). И чем более одарён автор, тем больше тайного, сокровенного содержит и скрывает его судьба. «Бог диктовал, а я писал», – повторял Виктур Гюго.
Пишущие, размышляющие – особенно освоившие литературу как профессию (литераторы) знают: «диктовка» свыше «мечтами-образами», с «перевоплощениями» – тем дороже обходится им, пишущим (в смысле самочувствия, здоровья, а нередко и прямой угрозы судьбе), – чем более они вживаются в характеры своих персонажей, чем глубже исследуют судьбы своих героев. Это «вживание» в образ изнашивает, расходует автора гораздо больше, чем актёра его амплуа. Автор создаёт, актёр примеряет личину и лишь заучивает монологи и диалоги наизусть. К тому же актёр, играя выученную роль, показывает «через себя» одного, двух персонажей, не более. Автор – создаёт сотни характеров, примеряет тысячи черт и всяких сугубых отдельных примет, развивает и носит в себе движение пьес в их развитии, драматургию, сюжеты.
В романе «Война и мир» Л. Толстого 559 героев, из них более двадцати основные, центральные, и за всех необходимо говорить, мыслить, проживать их жизни, осмысливать их трагедии. Автор – если он ответственно работает, просто вынужден «переселяться душой», вживаться во всех сразу и во многих в отдельности. В каждую судьбу созданных им персонажей, втираться в их отношения, обосновывать их дружбу или вражду, мотивировать их конфликты, их любовь и ненависть.
Леонид Андреев после публикации повести или рассказа неделями «не мог выйти из образа». Потому и алкоголь, и неустроенность, и рван́ ый быт. Долгожители: Гёте, Гюго, Тициан – редки.́ «Моцартианский», пушкинский тип холерика-писателя и экспансивного поэта – гораздо более заметен, выразителен и вероятен среди присущих писателям талантов.
Таи́ нство рождения шедевров, «вечных» книг – загадка и для самих даже их создателей, не говоря уж о пояснениях их изысков от литературоведов, от критиков, от читателей, – отсюда мистические домыслы, глубокие омуты сюжетов. Авторы зачастую не безразличны к необъяснимому, тайному, – возможно, они даже излишне пристрастны, как пристрастен художник к своему изделию. Кроме того, ведь и само рождение человека, и жизнь, и смерть – тоже загадка. И, кажется, – человек прежде всего тайна, не только для самого себя, но даже и для самой «мировой воли» (по определению Шопенгауэра, который попытался свести воедино многие знания древних, «Упанишады» и буддизм…).
И всё же волнует не абстрактное понятие: «писатель» или «сочинитель» как создатель художественных произведений, а истинно то́, какой же темперамент, какие житейские условия, какая сила питает его талант (если он есть), потенциал, и то́, как именно и когда он читал «вечные» книги…
В конце концов, даже и Мопассан за свою короткую жизнь, и Дж. Лондон, и немногие (почившие или добровольно ушедшие) иные создали – не написа́ли, а именно со́здали – шедевры. И всё же многое не создано, не напи́сано, а построено из кирпичиков случаев и событий, пережитых автором, собранных «набитой» рукой профессионала. Чьи-то замечательно точные слова – какого-то литера́тора, большого писателя: «В сущности, от всех наших писаний остаётся одна только метафора».
Когда читаешь письма Мопассана (или Флобера, или братьев Гонкур) о литературе, нередко чувствуешь попытки объяснить необъяснимое: суть художественных произведений, тайные эмоции, предощуще́ния (таковы «Орля», «На воде», «Корбарский монастырь». «Дневники» Гонкуров. Или: «Простое сердце» и «Воспитание чувств» Г. Флобера). И часто – всё тонет в неопределённости: всё-то символы, всё-то неосознанная реальность. Всё сводится к объяснению участия или неучастия в нашем бытии сознания и подсознания…
«Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ, и точное выражение реального», – когда-то я набросал в записной книжке эту мысль не по́ходя и задумался. Теперь точно не вспомню, чья это мысль, – так просто, ясно, как вообще всё, что правдиво, – она высказана. Но вот «символ»: общая идея, отношение автора к предмету и – «одна восьмая айсберга» от сказанного (по Хемингуэю) – как эти части соотнести?
…Уильям Сомерсет Моэм называл себя учеником Мопассана и Чехова. Этого английского писателя мало переводили у нас, плохо знают читатели; У.С. – врач по профессии, двадцати трёх лет от роду, практикуя в нищих кварталах Лондона, однажды написал «Лизу из Ламбета» – и, что называется, с места в карьер покорил читателей, и не только в Англии.
Писатель, драматург, эссеист Моэм – личность неординарная, загадочная сама по себе. Он сам – символ, сам – тёмный причудливый знак. Циник, женоненавистник, разведчик – он подозревался во всех мыслимых и немыслимых грехах человеческих. Его интересовали, если можно так выразиться, «острые углы» личности. Люди, которые и жили, и действовали не так, как все прочие, шли «не теми» путями – с не свойственными обывателю ри́сками. Его «Бремя страстей человеческих» – одно из высших достижений западно-европейской прозы. Умение поднять личный опыт до общезна́чимого, до символа и истины – вот что такое Моэм. Его цель – широкий замах.
«Символ» – синоним слова «гений» – Моэм называл это: символ-«демон». Божественная сила. Злая или добрая, но именно она только якобы определяет судьбу человека… Добро и Красота в их единстве – суть гармония жизни. Но красота бывает и демоническая, и ангельская. А ещё есть гармония достоверности. «Если нация, – писал Моэм, – ценит нечто выше свободы, она потеряет свою свободу. А ирония состоит в том, что если это не́что – комфорт или деньги, то она лишается их».
Почти всю долгую жизнь Уильям Сомерсет Моэм прожил во Франции. После Второй мировой войны он вернулся из Америки в свой дом на французской Ривьере, который приобрёл через несколько лет после Первой мировой. Древний мавританский знак, предохраняющий, по его поверью, от невзгод, оказался бессилен против нашествия фашистов. Сам Моэм хранил и почитал знак этот – в виде ломаной линии, как бы двойное «дубль вэ» рядом – помещал на обложках книг. И изобразил, и взлелеял его даже на стене у въезда на виллу…
В 1948 году вышла его книга «Великие писатели и их романы», а в 1954-м она была переиздана в изменённом и дополненном виде как «Десять романов и их создатели». Книга эта – суть попытка разгадки названных тайн – некие в своём роде «мавританские знаки» и его потуги понять тайнопись великих романистов, объединённых единой «путеводной звездой»: Филдинг, Джейн Остин, Стендаль, Бальзак, Диккенс, Эмили Бронте, Мэлвилл, Флобер, Толстой, Достоевский. Смею сказать, врождённый инстинкт этих десятерых и многих иных величайших писателей – был тоже «зна́ком», «символом», «но́рдом», «путеводной звездой»; сам же Моэм придумал себе свой собственный «мавританский знак» – ломаную линию, словно какую-то личную тайну, он тщательно скрывал её неким весьма причудливым зигзагом…