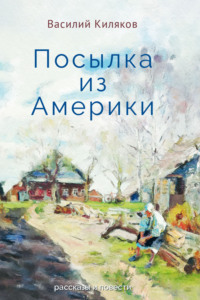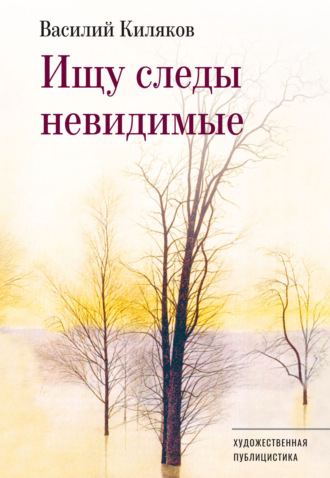
Полная версия
Ищу следы невидимые
…Восхищённый взгляд в калейдоскоп, обращённый к Небу, – не может возгордиться. Это только взгляд. А как иначе: или, быть может, это ты и только ты и создал изделие для витража или алмазной мозаики, а – свет? А храм для мозаики? А облака над ними тоже тобою созданы?
…Но бывают минуты озарения, когда, устав от долгого кропотливого труда, отбросив ворох исписанной бумаги, подойдёшь к чёрному ночному окну, где за стеклом дрожит и ещё дважды в ночном стекле-зеркале отражается, повторяется таинственная глубина Бытия. И, опустив занемевшую руку, застынешь перед чёрной звёздной бездной – и забудешь тогда и о мире, и о себе самом. И вдруг – вдруг!.. – поймёшь тогда и почувствуешь на себе эту мощь, услышишь вдруг издалека едва различимую «симфонию жизни». Так ясно почувствуешь тогда прелесть и влекущую бездну этого страшного состояния – и мгновенность, эфемерность своего бытия: ты один в бездне, между землёй и Небом…
И тотчас обомлеешь – от единства с этим миром, с этими зелёно-белыми, отливающими разноцветьем звёздами. Ощутишь всю эту тяжесть бездонной глубины небесной, способной вмиг раздавить тебя – а в то же время и благословить – бесконечной, не заслуженной тобой Любовью.
Почувствуешь тогда и родство с этим воздухом и этими деревьями – чуткими, как трепет невидимых крыл. И тогда услышишь томительными созвучиями и сам рассвет, и то, как растёт в сердце великая благодарность… Кому и за что? Бездонному, чёрному в далёком рдяно́м пожарище зари, пугающему ужасным величием своим Небу? Лёгкому близкому рассвету, засинившему окно? Людям ли, для которых пишешь и о которых думаешь, о существе и существовании коих помнишь всегда, – обо всём и обо всех – с кем можешь и хочешь поделиться и горем своим, и счастьем на этой земле. Горьким счастьем своим… И глядит в наши оќ на великое Небо. Вечное. И тогда понимаешь: отдельная слав́ а, любая, смешна и ничтожна. Важно и бесконечно лишь Небо и величайшая вечно звучащая симфония орган́ а Небесного…
1984–1986, 2020
О душе
Какое несчастье для человека недалёкого – собственная его душа… Эта субстанция – удивительнейшая сущность, сколок Бога, Божественного зеркала, нечто вживлённое в плоть. Но вживлён этот «сколок» необработанным осколком, колючим, стеклянным, острым, колющим, не дающим покоя и постоянно напоминающим о себе и болью, и присутствием, и укором совести, неудобствами размышлений: сравнениями, рефлексией.
Невероятно это смешение в человеке – Божественного начала и – начала животного. Не случайно изображение кентавра у древних греков: животная стать, сросшаяся с человеческой, – и вот едва ли не каждый из нас, в той или иной мере постоянно мучится сомнениями и поисками высшего порядка и – в то же время страдает от самых примитивных и низких плотских желаний, страстей.
Какие сомнения по поводу Любви Божественной, как сложносоставны этой боли «посланники». Какие страсти терзают «человеков» по системе координат: «свой-чужой», и по их «животной» жизни… Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле – в виде терзающего самого себя великана, наносящего себе увечья. Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!..) терзает себя, пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок из своей плоти, вживлённый как необходимое условие существования человека в двух ипостасях: в мире насущном, плоском – и надмирном (и часто неосознанным), редчайшем взлёте и паре́нии.
* * *Необычное, неодинаковое влияние творчества, творческого процесса – на людей, обладающих настоящим даром, – людей, носящих в себе искру Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, убивает человека (Ван Гог, Моцарт…) или, напротив, способствует долгожительству, придаёт смысл, стать и даже вкус и восторг бытию творческого человека (тоже, конечно, не без срывов и терзаний). Охраняет и поддерживает существование творца и художника в этом бренном мире: Толстой, Леонардо да Винчи, Тициан…
1992
Роковой отъезд
В последний год жизни Мопассан, смертельно больной, работал над романом «Чужеземная душа». Сохранились собранные материалы для этого романа, опубликованы фрагменты. В набросках, если пристально читать их – поражаешься, зримо видишь, с особой яркостью отмечаешь, какие высокие требования ставил перед собой писатель Ги де Мопассан. Он весь, даже в ранних работах, в юности, когда – то́ писал, то́ грёб на лодке до смертельной усталости в перерывах между сном и творчеством, – воспринимается читателем как бы в тяжёлом предчувствии скорой своей гибели…
Слуга Мопассана Тассар написал и издал занимательную книгу о «великом поэте», своём «господине». Если только имеет право один из живущих (пусть и подневольный) – называть «господином» кого-то другого (разве только Бога Самого). Отношения «слуга-господин» и в случае с Мопассаном и Тассаром тоже весьма условны. В книге о Мопассане много субъективного, спорного, но есть и редкие яркие находки, и оригинальные наблюдения. Для «Чужеземной души» Мопассан собирал «особый» материал – например пейзажи вокруг курорта Экс-ле-Бен. Вместе со слугой он наблюдал закат, осматривал горы вокруг курорта.
…Солнце пряталось в долине, лучи освещали озеро, воды которого горели пожаром заходящего солнца, и сквозь расщелины – лучи, пронзая тучи, освещали необозримую широкую долину с великолепным ландшафтом. Вершины гор, близких к полыхающему озеру, уже чернели, погружались во мрак умирающего дня. Небо меняло краски, и глубокая тишина опускалась в окрестностях Экс-ле-Бена. Наступала ночь. Звёзд ещё не было видно. Пожар озера умирал на глазах, и величайший прозаик и поэт Франции вместе с Тассаром взглядов не спускали с озера, расщелин и гор, меняющих очертания в свете закатного дня… Тассар следил за своим «господином», чувствуя восторженную душу поэта: «Допишет ли мой господин «Чужеземную душу»», – думалось ему в эти минуты – так утверждает он сам впоследствии.
…Тассар служил верой и правдой, и если согласиться с книгой, написанной им о Мопассане, то получается, что будучи сам и слугой, и поэтом, – он чувствовал, понимал одинокую душу Мопассана как никто до их встречи и дружбы; знал наверняка, что этот закат, этот пожар большого озера, и чернеющие склоны гор, и дикие заросли окрестностей будут показаны в «Чужеземной душе». Тассар пытался узнать, предугадать: что именно волнует Мопассана в эти тревожные минуты заходящего солнца, среди еле уловимых красок свечеревшего дня, засинённого тучами мутного неба… Солнце пряталось, краски померкли, ночь овладела окрестностями курорта Экс-ле-Бен, и мало-помалу всё погрузилось во мрак…
Вдвоём они спускались тропинкой с гор, – и каждый дорисовывал картины мысленным взором, и тогда Мопассан восторженным тоном говорил слуге Тассару: «Вы хорошо это видели? Ну, так всё это вы найдёте в новом моём романе. Экс и его окрестности дадут мне превосходную рамку для действий моих персонажей».
Для «Чужеземной души» было собрано Мопассаном много исходного материала: казалось, едва ли не все краски земли, едва ли не все еле уловимые ощущения и мгновения озарения – стремился вырвать из жизни для своего полотна и выразить в романе талантливый француз.
В «Чужеземной душе» основным стержнем романа была бы критика светского общества, пороков термального курорта Экс-ле-Бен, с его казино, дешёвой любовью, деньгами – словом, вся мерзость и нравственное падение «избранных» – закисание «сливок» общества на фоне величайшей земной красоты, созданной Всевышним для трудов праведных и призванной к высокой жизни человеческой души. Мир денег и мир духовности, сходное и различное между мужем и женой… Мучительное «двуединство» и в первом, и во втором примере. Этот роман должен был продолжить и развить начатое в «Монт Ориоле» (1887 г.).
…Прототипом одной из героинь была выбрана Кармен Сильва, румынская королева и писательница. Но, как известно, «Чужеземную душу» Мопассан не успел закончить, не прекращая работы над романом до самого рокового отъезда в Париж к доктору Бланш… Впереди ждали: и рана на шее от попытки самоубийства, и мучительная изматывающая бессонница, и болезненное и одновременно желанное одиночество, и страшные муки от головной боли, которые причинял яркий свет изношенным нервам, и отчаяние, и потеря памяти, и непереносимая ломота в темени и висках, которая стихала лишь на время, да и то, лишь когда вдыхал писатель с жадной надеждой хоть немного передохнуть – ядовитые пары́ из склянки с эфиром; частые компрессы и уколы сульфата ртути, и, наконец, полная слепота как следствие спинной сухотки, прогрессирующего паралича мозга…
По смерти Гийома и слуга его Франсуа напишет книгу воспоминаний о «господине». Напишет единственно ради денег – ради того, что так презирал и к чему так стремился сам Ги де Мопассан, терзаемый непомерными запросами матери, ненасытной её гордостью, поощряемый похвалами за его успехи, за славу. Она будет требовать от сына деньги – для себя, для трат огромных, и для того ещё, чтобы чаще бывать в «свете» французских салонов, блеском и модой которых она не могла налюбоваться, – и как им обоим казалось, «света» неотрывного от его мировой славы – той, что так и не наградила его самого́ ни любовью преданной женщины, ни… хотя бы счастьем одиночества…
1986
Моя путеводная звезда
Передо мной всегда стоял вопрос: как правильно использовать имеющийся арсенал художественных средств или, как его ещё называют, «деталей»?
А.П. Чехов имел истинное дарование не злоупотреблять красками: он весь – так кажется, врождённые и воплощённые чувство меры и вкус. И.А. Бунин поражает красками, «выпуклостью», густотой письма: весь «Господин из Сан-Франциско», «Генрих», «Жизнь Арсеньева» состоят исключительно из красок и декораций, – и этими щедрыми красками всё: и проза, и поэзия его пылают. (Океанская волна идёт за кормой парохода при ярком солнце, точно «павлинье перо»…)
К. Паустовский (хоть это, конечно, пример из другого писательского ряда) – лишь чуть-чуть подкрашивает пейзажи вокруг героев, создаёт некий ореол, знаменитый «контур чувств» и настроений. Н.В. Гоголь – певец красок и мастер «оживших бутафорий», которые у него тоже в изобилии. Причём так: они и есть, и вроде бы, они и всего лишь «ка́жимость» («Нос», «Портрет»); а прозвучав – тут же исчезают, как призраки. У Л.Н. Толстого – деталь имеет обобщающее значение: знаменитый дуб в «Войне и мире», Наташа Ростова в Отрадном – именно через деталь, мирочувствование юной девушки – и уже только этим одним Наташа прекрасна.
В сумятице высказываний об искусстве, о том, как именно пишутся книги, – от многих и многих авторитетов трудно уловить-выудить истину. Так как же в самом деле, а главное – и когда «загущать» деталями полотна, и сколько сможет вместить читатель из прочитанного в конечном результате. Не ошарашит ли его обилие декораций, не затуманят ли подробности и саму даже суть, и «идею» (как сплошь случается, например, у В. Набокова), – не помешают ли богатые краски восприятию общего и целого, архитектонике, замыслу… Вопросы, вопросы…
Опасения и размышления всегда тревожат взыскательного, неповерхностного автора. Таким образом, пишущий всегда стои́т перед важным выбором: как использовать имеющийся у него в достатке арсенал художественных средств и одновременно не «перегустить». А выполов и проредив старательно, – сумеешь ли договорить о тайном, однако.
…У нас величайшее наследие классики: Гоголь, Тургенев, Бунин, Толстые… Как не стать сквалыгой – и не прослыть «промотом»? И тут очевидно: надо положиться на себя, исключительно на свои чувства, исповедовать только свои убеждения, слышать свой пульс и шум, и ток крови.
Как же противоречивы высказывания прославленных о стиле и о «детали» – эти домыслы, в том числе и прослывших великими даже писателей! И если пойти за кем-то, поверить безоглядно, то обязательно попадёшь не на ту, не на то́рную дорогу, а собьёшься с истинного пути. Сколько их, способных, талантливых – пошли, например, за тем же И. Буниным, этим литературным эстетом-колдуном, этим Сусаниным, – и все они растерялись, прослыли эпигонами, заблудились на путях-дорогах, утонули в лесных его болотах, растерялись в его снегах. То же можно сказать и о тропинках извилистых и кривых задорного и щедрого А. Куприна́…
С пристрастием наблюдаю современника-читателя: кто же, думается мне, читает теперь «Тенистые аллеи» Бунина? А ведь он, Бунин, – оставил нам настоящие сокровища: «лишь слову жизнь дана» – одна поэзия его дорогого стоит, а проза… Сколько теперь избранных, читающих настоящую литературу, не бульварщину, катящуюся по «Даун-стрит» («Down street»), – их очень и очень мало, и всё меньше становится. Большинству же не до стиля, не до детали, конечно. Кто помнит теперь про «деталь». Школа русской классической литературы утеряна. Многие по стилю – не отличат теперь Тургенева от Олеши, или – высоко несут стяг… тех же Стругацких, например, не понимая вовсе красоты и эстетики слова.
Смысловая «нагрузка», сюжет, увлекательность повествования – вот и все критерии. Не чувствуют они бедняги, не видят красоты, не понимают силу вложенных в строку колоритности, выпуклости. И всё же «Тёмные аллеи» – сборник рассказов – весь стоит исключительно на «детал́ и». (А цикл этот из рассказов не издававался у нас в Союзе даже и едва ли не до семидесятых годов, – и это то́т образ́ чик «подроб́ ностей», которые пронзаю́ т. Простенький внешне сборник рассказов этот лишил сна перед Олимпиадой в Токио Юрия Власова, сильнейшего человека мира, штангиста – человека, отлично владеющего собой).
Всё изучается в сравнении. И тут приходится с особым пристрастием выписывать высказывания великих, дабы усвоить истину, которая одна только и сделает нас свобо́дными, ибо только истина прекрасна. А.Б. Гольденвейзер вспоминал высказывания Л.Н. Толстого о рассказе И.А. Бунина: «Вначале – превосходное описание природы, идёт дождичек. А потом девица мечтает о нём, и это всё: и глупое чувство девицы, и дождичек – всё нужно только для того, чтобы Бунин написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать не о чем, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну, шёл дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что всё это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно».
Лев Толстой-писатель (в противоположность Л. Толстому – философу), конечно, несравнимо велик. Но соглашаться ли с ним, принимать ли неоспоримо это чадящее как бы едкой се́рой и едва ли не из самой преисподней мнение? И тут – сомнения, опять-таки сомнения.
Человек – великим ли признан он, или явно приземлённый – существо весьма противоречивое. Часто «под настроение», под горячую руку высказываются «незабвенные» истины и говорятся пустые слова. В конце концов, можно с Л. Толстым и не соглашаться. Если рассказ «Заря всю ночь» (в первом издании – рассказ «Счастье») принять таким, каков он есть: с красотой природы, с истинным мгновением, схваченным так неожиданно… И – увидеть, суметь разглядеть это счастье, уловить и передать неповторимые минуты, как удалось сделать Бунину, – разве всё это не великолепно, разве мастерство передачи изображения-настроения не высокое, не великолепное искусство? Просто «дождичек» и есть? И кто может сравнить и наверняка вполне оценить, что важнее для души человеческой в её ощутительном бытии, в дозревании её эстетическом: небо над Болконским, небо над Аустерлицем – или заря и небо Бунина в его рассказе «Счастье»?
И девушка Наталья узнала, что приехал жених, неясные желания, неуловимые предчувствия… Соглашаться ли с Л. Толстым? Поверить ли И. Бунину?.. В самом деле, как же мне самому писа́ть – вот вопрос, который возникает неминуемо из противопоставлений такой высоты русских авторов. Бесчисленное множество высказываний, вроде того, что «петь по-свойски, даже как лягушка» (Есенин), «брехать по-своему» (Чехов), – всё это ровным счётом ничего не открывает и не ведёт к истокам, не отвечает на вопрос: а как именно?..
Ф.И. Тютчев сказал о «Записках охотника»: «…С другой стороны, не менее замечательное сочетание самой интимной реальности человеческой жизни и проникновенное понимание природы во всей поэзии». Всё так, но Толстой ли не понимал «интимной реальности жизни»? Он ли не чувствовал «природу во всей поэзии»? И знал, и чувствовал.
С тех пор, как горожанина потянуло в выходной день на лоно природы, он стал поэтом. Он понёс это, неч́ то эстетическое, трудноуловимое… Именно – то́ чувство, которое поэты пытаются (и часто – тщетно) передать друг другу и читателю. Художники ловят мгновения и настроения, на то они художники. Но где же и когда, в каких «усадьбах» мы растеряли тургеневских барышень? (А ведь растеряли же!). И чистота «Бедной Лизы» Карамзина нам непонятна теперь, и не трогает она многих сегодня… Почему? Сентиментально? Или читатель загрубел́, зачерствел́?
Многим известны высказывания критики о близости манеры, стиля, приёмов изображения – и Тургенева, и Бунина. Отчего они так близки – только ли оттого, что их сближал и «подчинил» (будто бы) французский язык, ведь галломанами не были ни тот, ни другой (хоть Тургенева упрекали в том, что «он и мыслит по-французски»). Известно множество советов о том, как следует писать – и от женской половины, то же от «писательниц»: от Зинаиды Гиппиус и даже от «милой» Тэффи. И всё же – опять: как не прослыть скрягой и не промотать наследства?
Так называемая «натуральная школа» в литературе – спутала «Божий дар с яичницей»: она внесла сумятицу в разгадку самого простого и загадочного одновременно – в метод освоения путей и в психологию творческих поисков каждого отдельно взятого писателя, поэта, даже – и живописца… Как только замаячила над горизонтом зыбкая и трепетная, переливчатым светом сияющая звезда творческой личности, – сам горизонт стал удаляться, и приблизиться к нему становилось всё трудней и трудней… Как же быть?
Литературовед́ ение как наука, кажется, бессильно, опытно не применимо. А, может быть, вышесказанное: и то, и другое, и третье – взять в свою нищую суму? И разукрашивать свой слог нещадно «и золотом, и алмазами», как советует Жорж Санд (Аврора Дюдеван), и одновременно «непосредственное и неизбежное течение разговорной речи» – использовать тоже? «И то, и другое, – пишет она, – одинаково трудно». Взять и то, и другое, и третье – и понести ли, и привнести ли (так и пробовали работать И. Бабель и Ю. Олеша) в своё, так же метафорически, иронически, как это делали они? И всё же многое у них невыносимо трудно написано и почти нечитаб́ ельно. Ведь всё надо делать хорошо, «даже и с ума сходить», как говаривал О. Бальзак.
Если систему чужих принципов не дано усвоить никому, если никто не является пчелой, переносящей нектар в благодатный мёд, – зачем же столько разговоров о методах и мастерстве? Всё и всегда непознаваемо, весьма условно, а разве нет?.. И тогда – под сомнением и сама необходимость литературоведения как отдельной науки, и изучение стилистики, и психологии творчества. Выходит, пути поиска даже пристрастные – никуда не ведут?
А. Дюма-старший писал романы-кирпичи (говорят, за него ваяли именитые журналисты – «литературные негры») – все те́ романы, в которых кипят страсти бурными реками. Сам же он был всего лишь хорошим редактором, – и сам он говорил нечто противоположное, например: «…для создания драмы довольно одной страсти и четырёх стен».
…Традиция «писать красиво», называть и именова́ть краски, капать определениями с кончиков пальцев – зародилась именно в русских терновниках ещё до явления нам Н.В. Гоголя. Приключенческий роман не прижился в России. В очерке о Гоголе тот же П. Мериме сказал, имея ввиду конечно русскую школу детали: «В конце концо́в, искусство выбирать одну краску из того бесконечного многообразия, которое являет нам природа, куда сложнее, нежели умение прилежно разглядывать все эти краски и точно передавать их». Бальзак натаскивает столько «строительного материала», что трудно порой подступиться к его «строительным лесам». Но когда дом построен, дух захватывает от одного взгляда на грандиозное сооружение.
Опыт приходит лишь с годами и только в трудах. Работой создаётся мастер, так, значит, стоит потрудиться. И научиться пусть и не называть полностью, а только лишь намекнуть читателю, – но намекнуть изящно, правдиво, через действие и одну-единственную деталь – вот (на мой взгляд) сущность и суть литературного творчества, которое постигаешь мало-помалу, исподволь и – бесконечно долго. Всегда своим по́том и своей (только) кровью. Но и это, в сущности, – лишь одна восьмая часть айсберга. В муках, в творческой лаборатории, в этой «келье слёз» с одним окном и столом, заваленным обрывками бумаги (в целях экономии исписанными с двух сторон), я чувствую порой, что не в силах собрать всё, что необходимо даже для одного-единственного рассказа. И тут – обязательны не только реквизит и умение: что можно – отсечь, выбросить, хоть корзина давно полна бумаг… Суметь отобрать только своё, характерное именно и только для меня – и отбросить всё лишнее, может статься, что и блистательно написанное, но «не моё» – именно почувствовать, что не ложится на душу, не освещает (хоть под каким-то иным, отличным от прочитанного углом зрения) и не обнажает замысел произведения. И тут никакие яркие одежды не спасут, если от начала до конца – «не прощупывается» костяк идеи и намерения. Автор (скажу ярко): не всегда выводит основную мысль – через образ, но стремление провести её кратчайшим путём – от ивовых зарослей речного плёса – по броду, среди живой топи и неверной хляби (исключительно интуитивно) – вот единственно только и цель.
…Моя путеводная звезда – одна заветная – это система отбора… Она сияет мне на дальнем горизонте вечной «слезой» Северной Звезды. И только под ней, а не где-нибудь, сто́ит продолжить поиски собственной тени…
1989
Благослови, отче
Ночь. Комната. Стол, и настольная лампа освещает полки «с кирпичами» книг… Книги, и книги, и книги в комнате моей: на полках, на столе, на полу… Разные, старые, в тиснёных переплетах – и клеёные, книги с обрезом. Книги, когда-то запрещённые, и «самиздат», и «тамиздат», и «самсебяиздат», и богатые книги-купцы, подлинные названия которых скрыты, захоронены за драпировками суперобложек.
Когда-то, кажется, недавно, год или два назад, а на деле тридцать два года тому, в ту ещё пору, когда читали много, жадно и с аппетитом (и гордились неравнодушием к литературе), я сам капитально «подсел» на классику. Сегодня не то уже время. Сегодня – даже и богато, и дорого изданная книга вовсе не гарантирует, к сожалению, качества. Даже чаще издают заведомо до́рого – чепуху, и тем самым прячут суть и пустоту за внешним лоском. За шиком (а точнее – «пши́ком»).
Читали прежде тайно, и было редким чтением: и М. Булгаков, и Бердяев, и Аксаковы и Шмелёв… Ильина и Данилевского, Шопенгауэра и Ницше – днём с огнём искали. Да что там, и само Евангелие изуча́ли впристаль, если повезло найти. Хоть нигде Писание купить (тогда говорили «достать») невозможно было. За книгой бегали – договаривались, а нередко читали взаимообразно, чаще всего тайно, и едва ли не на одну ночь. Теперь, когда чтиво на любой вкус и иску́с стало любое: «выбирай и владей», – читать, кажется, вовсе перестали.
Известно: голод особенно чувствуешь, когда ничего съестного нет даже на перспективу. При лютом голоде и корка чёрствого хлеба – пирожное. Так же и «духовный» голод, когда – «завались» всего, то ничего и не хочется. (Беда малочтения, правда, не только в изобилии). Книги – кладовые мыслей, опыта, знаний и плод размышлений многих поколений. Но кому, для кого́ они теперь? Теперь читать стало «немодно». Везде и во всём – компьютер, планшет, а там – «Инстаграмм», «Фейсбук», «Одноклассники», «В контакте», «Телеграм», в лучшем случае «аудиокнига», чаще «Тик-ток»… – много всякого. Говорят и пишут теперь всё чаще при экранах компьютеров, на сайтах да – в инет-изданиях, снимают – для «Твиттера» и «Ютуба». Внимание народа поглощено иным, не книгой. Изобретён не так давно в Японии компьютер, который не только сам пишет музыку (даже фуги!), но и – пишет и хоќ ку (японские «задушевные» двустишия), изобретает афоризмы (весьма спорные, впрочем). На основе фуг Баха – компьютер способен компилировать нечто во всех смыслах превосходное и освоил «сам» музыкальное сопровождение весьма, неожиданное. Обрабатывает компьютер даже и симфонии многоуровневые. Накладывает звуковое участие музыкальных инструментов самых разных, не сродных…
Есть компьютер, и с программой «в человеческий голос» работающий, умеющий давать мудрые советы на основе обобщённого опыта из тысяч томов, заложенных в его память, – опыт-вытяжка из всего того, что привнесено в него «мудростью тысячелетий». Программы всяческие – этакий «электронный Сократ». Некий всемирный совет жи́вших и живу́щих на свете мудрецов.