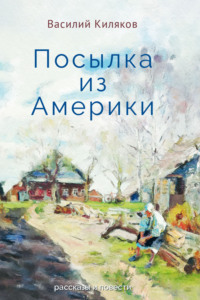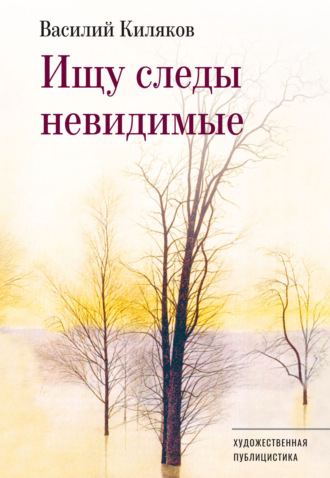
Полная версия
Ищу следы невидимые
Счастье, счастье… Что это такое – счастье? Юродивые, странники, страннические души, дух… Нет, это не путешественники, а именно странники – русская болезнь, ну как её спутать с какой-то другой. Что же было дорого и мило Бунину, поэту и страннику?
«У себя дома», в России, он с отвращением смотрел на «российские грязи». От грязных нищих углов, угарных изб только одной повести «Деревня» – зальёшься горючими слезами. Эта поразительная его память на запахи, ощущения, на лица, жесты, акценты речи и – на неожиданные диалоги. «Деревня», повесть… – жёлтое озеро, грязно-пенное, и – мужик выводит лошадь, по самые колени ступая в воде. «Какая мутная вода, ужели пьёте?..» – «Пьём, барин, за милую душу!»… А «Косцы» – едят мухоморы: «Они ску́сные, чистая курятина»…
Россия, за что любить такую, а сердце присохло к ней даже и у «барина», «барчука» (любимое словцо И.А. Бунина), и у пьяного крестьянина из коротких рассказов И.А. Б., зарыдавшего и упавшего на землю, с пьяными слезами кричавшего по осени дворянину, проезжавшему мимо в пролётке: «Эх, улетели журавли, барин! Улетели!». Словно бинты с кровавой раны своей снимает он, описывая Родину, и едва ли не везде в эмиграции – её и только её – весь остатний срок жизни. Не о Париже – о России тоскует: «По шпалам бы в Россию пошёл…»
РодинаОни глумятся над тобою,Они, о родина, корятТебя твоею простотою,Убогим видом чёрных хат…Так сын, спокойный и нахальный,Стыдится матери своей —Усталой, робкой и печальнойСредь городских его друзей,Глядит с улыбкой состраданьяНа ту, кто сотни вёрст брелаИ для него ко дню свиданьяПоследний грошик берегла.Не к либералам ли это обращение И.А. Бунина, не к тем ли «аристократам», которые возомнили, что им «всё возможно, всё позволено» и всё полезно? Не к тем ли, кто Самого Бога забыл и привёл великую Россию к падению в семнадцатый (а – и в девяносто первый-девяносто третий – впоследствии)? Не безродным ли космополитам адресовано стихотворение – «Родина». И как же пророчески горько сказано! Многие и впрямь «стыдятся матери своей» – и не от того ли нестроения наши и до сих пор. Итак, 1891 год, грядёт декаданс, разброд и шатания. Одна за другой – четыре «Думы» четырёх созывов. Масонский переворот февраля-марта 1917-го… Но ведь это, повторяю, – 1891 год. Бунину только двадцать годочков. Впереди – вся жизнь и слава. Впереди – Иудея, Париж, Ницца и… страшные «Окаянные дни» (а лучше бы переназвать: запоздалые «покаянные дни» едва ли не всей интеллигенции). Не сберегли (И.А. Б.): «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый Богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы»… А писатель В.В. Набоков подписался бы под этими словами? Несомненно, подписался бы. Как трогает искренностью, сердечностью бунинский «Бернар» – последний его рассказ – исповедь всей жизни… «Дней моих на земле осталось уже мало. И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами». «Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в моё окно»… – Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года. – «Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи»… – Это последнее, что от И.А. Бунина завещано нам, грешным. «Бернар» оканчивается так: «В море всё заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идёт бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе… Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части…
Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал её. Зачем, почему?
Но ведь сам Бог любит, чтобы всё было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».
Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе в свои последние дни нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар»…
…1952 год. И вот – «настал срок», плавание завершилось, пора сходить с корабля – таков звук последнего его рассказа «Бернар». А счастье? Счастье…
И трогательный самолюбивый В.В. Набоков – и он тоже эмигрант поневоле. Не оттого ли он так любил бабочек, что они – символы мгновенного и скоропреходящего, неповторимого настоящего, секунды бесценной в своей неожиданности и – неуловимого, как пыльца на крыле бабочки – такого простого и прелестного счастья?.. Счастья, недостижимого вне Родины. Жизнь, талант, самая смерть – лишь касание невесомых крыльев Счастья и Несчастья…
Как они похожи судьбами (по судьбе – по «Суду Божьему) – и Набоков, и Бунин, при всём видимом противоречии их и даже ненависти впоследствии (озлобление друг против друга – пришло вослед милой их, трогательной дружбе): похожи они и творчеством, и судьбами, и – пониманием ценности мимолётной жизни, дарованной Богом. Призрачности, лёгкости, эфемерности этой – «пыльцы» – «чешуек на крыле бабочки» – их пергаментной хрупкости… вне Родины… Родиться, жить и умереть в родном отчем доме – вот о чём мечтает русская душа. И крестьянина, и дворянина.
ВечерО счастье мы всегда лишь вспоминаем,А счастье рядом. Может быть, оноВот этот сад осенний за сараемИ чистый воздух, льющийся в окно.В бездонном небе лёгким белым краемВстаёт – сияет облако. ДавноСлежу за ним… Мы мало видим, мало знаем,А счастье – только знающим дано.Окно открыто. Пискнула и селаНа подоконник птичка. И от книгУсталый взгляд я отвожу на мигДень вечереет, небо опустело.Гул молотилки слышен на гумне,Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне…А это – уже 1909 год. Написаны уже и «Красный смех» Л. Андреева, и «Фома Гордеев» Горького-Пешкова. О чём это он, Бунин? Да всё об одном, всё о том же: о счастье простом человеческом, на которое (так кажется нам) каждый имеет право!
А вот другое, иной год… Бог мой, да не 1918-й ли уж это, кровавый и нищий, страшный год междоусобиц?! А – какие стихи… Какие!
И забуду я всё,Вспомню только вот этиПолевые пути меж колосьев и трав,И от сладостных слёзНе успею ответить,К милосердным Коленам припав.Набоков, Бунин. Эмигранты. Пути и имена их – легендарны. Экзотика богоизбранной Иудеи с её дивными реликвиями раннего христианства – не очаровала романтика-Бунина, ни Азия, ни Турция и ни Греция с её древней культурой – не соблазнили «осесть» в дальних краях. Не заменили им чужие пороги и чужие дороги, и неблагоприятные палестины – родных пенатов.
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.Как горько было сердцу молодому,Когда я уходил с отцовского двора,Сказать прости родному дому!У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.Как бьётся сердце горестно и громко,Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный домС своей уж ветхою котомкой!Тут необходимо добавить, что первая строка стихотворения – до буквы – цитата из Евангелия. Они перечитывали Евангелие постоянно, оба, и Бунин, и Набоков. Известно: странники, моряки да раненые на поле боя – прочно и навсегда запоминают, на всю жизнь бесценные слова из Евангелия. «К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники», – записано у В.В. Набокова. А для Ивана Бунина – верны ли эти слова? Без всякого сомнения – верны…
А вот эти «полевые пути меж колосьев и трав» – вот что единственно дорого вдали от дома русской беспокойной душе. Яркое солнце над простором хлебов, полевая дорога с разъезженными колеями, жидкая и жухлая осока между ними. Колосья спеют, к полудню – зной, в лазурном небе яркое солнце, и хочется к роднику, по-звериному облокотиться, припасть на ладони, на руки-на ноги – и напиться «припадком»… Вот оно, настоящее. Смысл такого счастья – так и не разгадан.
Счастлив ещё и тем Иван Бунин, что – ошибся он: думал «в жизни земной», что книги его «будут сохнуть на полках». А мы, кажется, только-только начинаем его читать, понимать, и лет (быть может) через пятьдесят поймут и оценят его по-настоящему. И виноваты в этом не только составители школьных программ, идеологи-«соцреалисты» или какие-нибудь новоявленные «просветители» «поп-артовцы», виноваты – и в этом тоже – мы сами. Не министры-капиталисты, которым – что родной Тамбов, что Ницца, что Лозанна, их родина – деньги… А – мы, русские. Здесь не о других, о нас, здесь, в этом очерке – о простых людях.
Сколько раз в разные времена нашей истории примеривали мы «аглицкие» костюмы, «к чёрту снимали их», потом мерили американские «джинсы», бейсболки… Прыгаем на сценах, как янки. И это постыдное обезьянничество – в политике, в экономике. Но вот были люди – и Бунин, и Набоков в их числе, которым и хлеб чужбины – чужестранный, трижды хвалёный хлеб – казался совсем не таким вожделенным, как в России. Как случилось, что нам всё родное – стало «не в коня корм». Не по костям нам и Европа, плевали мы на Европу. В конце концов, от фашистов она нас не освобождала. И их портки хвалёные, крепкие, как пожарные рукава, лопаются у нас на причинных местах, и когда лопаются – становится стыдно. У нас даже матерщина своя, оригинальная, пришедшая из тьмы времён – то ли от татар, то ли от «европействующих» дворян, первых носителей «духа неповиновения», от этой беспочвенности, отрыва от глубоких народных корней части «образованного» слоя, дерзкого противления самому замыслу Божьему, то ли по причине свойственной нам, бывало, анархии – от бешеного темперамента монголов, от кровно слившейся с нами Золотой Орды… Но ведь и от тех же монголов Европу укрыла Россия. И сколько раз ещё укрывала Россия Европу с тех пор…
Две крайности: от полной покорности – до умения так ошеломить непредсказуемой храбростью своей, самым отчаянным подвигом, так «намутить воду», чтоб и чертям на том свете тошно стало, и снова вдруг – до полного смирения и – толстовского непротивления. Достоевский их видел, эти наши метания, написал о них. Именно: намутить – да так, чтоб все ахнули. «В бой, скорее в бой, – а там посмотрим…» – Суворов…
«Эй, распро… твою, три крестиночки,В чёрта душу мать, возница!» —Крикнул Пров, и колесница,Застучав по мостовой,Понесла его стрелой.Стихия татарская, осетинская – во многом. Кровь. Кочубеи, Чингизиды, Юсуповы, Мещерские… Не о них речь, но и мимо не пройдёшь. Ну, где ещё такой анархический дух в Европе? У нас всё своё, и славянофильское, и славяно-монголо-анархическое – а получилось: «русская кобылка» необъезженная, не подчинённая никому, сама по себе в галоп несущаяся. И так понесла эта кобылка Россию по ухабам, через стремнины – всё разбила, раскрошила, свалила под откос с 17-го года и до наших ещё дней тащит перевернутую телегу… И дух этот не от плебеев, не от холопов. Холопы ещё не научились жить «по-господски». Нет? Ну, где ещё в Европе пьют неразбавленный спирт «Рояль» для розжига каминов (обильно поставляемый нам всё из той же «культурной Европы» в мрачные 90-е) – травятся, блюют, пьют и чеченскую «водку», а протрезвев – как бывало, опять пьют. Потом становятся на колени и молятся, молятся, прощения просят у Господа Бога, у своего, русского Бога. И первыми, как предки их, летят в Космос!.. (Бога всегда мы просим, даже когда на кражу идём. Даже в Акафисте иконе «Нечаянная радость» о том сказано). И вместе с тем – услужливо навязываемое чужеродными мудрецами презрение к русскому «вяканию»: вместо русского языка – суржик, плохой «аглицкий» – чужое будто бы слаще, как яблоки в деревне слаще именно и только из чужого сада. «Плохо» – «негативно», повышение цен – «либерализация», «деноминация» и ещё неведомо что, – всё это от недооценки себя, от недоверия к русской сути своей, от незнания назначения своего на земле (о чём так много размышлял Ф.М. Достоевский). От самоуничижения тоже, самоунижения, того самоукорения, самоедства, которое «паче гордости». А ведь – и век едва прошёл с тех пор, когда вместо «расстрелять» говорили: «шлёпнуть», «в расход». И вот, в связи с непредсказуемой русскостью, с русским непредсказуемым духом – особенно яркие, тонкие личности – и В. Набоков среди них едва ли не в числе первых… «Любимец» – при первом знакомстве – Ивана Алексеевича, самого Бунина (по собственному признанию мэтра, автора «Митиной любви»), его «сразивший, как из двух пистолетов» романом «Защита Лужина». А затем – ставший не́другом, даже «чудовищем» (по его же, Ивана Бунина, воспоминаниям)…
…В семье Набокова всё было на английский манер, словом, – англоманы. И род его, как утверждал сам В. Набоков, – от мурзы. В их семье, сдаётся, только блины были русские да тюбетейки татарские. «Защита Лу́жина», «Приглашение на казнь» – для элиты, а, точнее, – для литературной богемы. «Дар» – роман таинственный… Но что, кроме наслаждения словом – «прекрасным штилем» – и памятью о родине, о семье – что вынесешь из этой книги? В дорогу жизни нечего взять… Стиль… Но ведь – и только. Какую игру новых смыслов и намёков вложил он в сей «дар» (бесценный и случайный), какую цель преследовал В.В. этим «родовым» романом «Дар» – непонятно. Та же, всё та же ностальгия вела его, влекла, волокла, тащила; та же русская кобылка, только память иная, в прошлое. Именно и только тоска по юности и по родине и сквозит – и в этом романе, или – не так? Это как: есть верх – настоящий, дерюжный, спасение от дождей и холодов, а слово прекраснодушное – розовая подкладка, муар, золотая сторона медали. Но и эта подкладка – вся в слезах: настоящей выстраданной поэзией нельзя солгать. Она исто́ком искренна. Ложь тотчас распознаётся даже и в стихотворном размере, даже и через набоковскую красивость, выспренность, вылощенность – пробивается настоящее, чувственное, кровное… Хорошие стихи искренни, как детский смех.
И от этой искренности порой хочется сжимать кулаки:
Бывают ночи: только лягу,В Россию поплывёт кровать,И вот ведут меня к оврагу,Ведут к оврагу убивать.Но, сердце, как бы ты хотело,Чтоб это вправду было так:Россия, звёзды, ночь расстрела,И весь в черёмухе овраг.(«Расстрел», 1927 г.)Итак, сердце согласно на что угодно, даже на расстрел, лишь бы увидеть хоть разок, самый ещё последний разочек – этот русский «весь в черёмухе овраг». Зачем? Что в нём, в этом овраге? Никто не ответит.
И Бунин, и Набоков – два классика – понимали, что Россию невозможно покинуть безвозвратно и не мучиться от этого; Россию невозможно увезти с собою на Запад. Всю жизнь скитался по отелям Набоков, а когда ему напоминали, что он достаточно богат для того, чтобы купить жильё и не мотаться с места на место, он отвечал коротко и односложно: «Мой дом в России». Пользуясь славой Набокова, хозяин отеля для того, чтобы привлечь постояльцев, сдавал ему лучший номер в разы дешевле, чем другим, В.В. – в зрелом возрасте в эмиграции не бедствовал – не то, что в молодости. И всё же пишет он уже в 1939 году такие строки:
Отвяжись, я тебя умоляю!Вечер страшен, гул жизни затих.Я беспомощен. Я умираюот слепых наплываний твоихТот, кто вольно отчизну покинул,волен выть на вершинах о ней,но теперь я спустился в долину,и теперь приближаться не смей.Навсегда я готов затаитьсяи без имени жить. Я готов,чтоб с тобой и во снах не сходиться,отказаться от всяческих снов;обескровить себя, искалечить,Не касаться любимейших книг,променять на любое наречьевсё, что есть у меня, – мой язык.Но зато, о Россия, сквозь слёзы,сквозь траву двух несмежных могил,сквозь дрожащие пятна берёзы,сквозь всё то, чем я смолоду жил,дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей!Ибо годы прошли и столетья,и за горе, за муку, за стыд, —поздно, поздно! – никто не ответит,и душа никому не простит.1939 г.
Как метко сказал вернувшийся на Родину А.И. Куприн: «Там, на Западе, и розы пахнут керосином». Даже розы…
1992, 2021, 21.10.2023
Юмор французов
Коньяк «Наполеон», леденцы «Монпансье», штаны «Галифе» (военные портки, по Гастону Галифе), «сэндвич», «кардиган», «макинтош» и многие другое ещё, весьма забавные эпонимы… А мыслим ли, возможен ли этакий юмор у нас, у русских, скажем: пиво «Владимир Ильич» (по привязанности его к пенному), или презерватив «Набоков» (в связи со скабрезной «Лолитой»), или грузинское вино «Берия» и т. д. Нет, как помнится, кроме фуражки-«сталинки» да «толстовки» – не сподобились придумать. Да и вообще, возможно ли представить себе – чтобы ожило подобие в предмете этакой насмешкой, этаким кощунством по отношению к прошлому, к истории, а уж тем более непонятен смех сардонический, ирония «на костях», на крови (подобно «гильотине» от Гильотена) – на судьбах?
Юмор такого «пошиба» выглядел бы у нас не то что нелепым, а даже циничным. Там же, во Франции или Англии – консерватизм: и флаги всё те же, не сменили колер от времён Директории. Страшно вымолвить: «Марсельеза» – до сих пор их национальный гимн. И это после всего того, что мы знаем о Бастилии и о Французской революции, о расстрелах Наполеоном-корсиканцем французов, беспощадно, картечью, да и сотнями, в один приём!..
Поистине, и: «…на развалинах пылающей Москвы // Мы не признали наглой воли // Того, под кем дрожали вы…» (А.С. Пушкин). Сии «европейцы» нам мало понятны прежде всего самой сущностью своей, способностью иронизировать даже над самым драматическим. Они, кажется, иные по самому составу крови, чем мы, эти «европейцы». Даже в пословицах и поговорках отражено это коренное отличие наше, и примеров множество. «Большому кораблю – большое плавание» – говорят в России. «Большому коту – большую крысу» – изрекают во Франции.
Примитивен порой даже и не юмор их, а сам образ мыслей европейцев, сама их сущность, существо… Или, как пример, в наши дни уже, анекдот-загадка, вот такая, например (от немцев): «В полицейской машине сидят поляк, вьетнамец и турок. Вопрос: кто за рулём?..» Слышал я эту головоломку в Гёте-центре, в Берлине. Собравшиеся немцы молчат, гадают. Ответ, оказывается, прост, и он такой: «…немец за рулём, потому что он полицейский». И тут же хохот неудержимый аудитории, одобрение.
И вот тут-то и я тотчас понимаю, о чём речь. И понимаю так подтекст загадки, намёк прост: избранная нация, немецкая, везёт нацменов, мигрантов… куда? Да в кутузку, конечно, всю эту шваль человеческую, всех этих «Schweine» надоевших, – то есть людей «второго ряда», «unterm Strich». Ненавистных им, немцам, по-прежнему наследникам Третьего Рейха, «сверхлюдям». Всех штрейкбрехеров собрал полицейский.
…Россия никогда не была бы Россией в тех масштабах, в которых она раскинулась со времён Ивана Грозного, если бы у нас так «шутили». Если бы и у нас так же относились к нациям и национальностям, населяющим страну. И тут уже и не догадка даже, а явный диагноз.
1993
О труде писателя
…Меня всегда поражало наше неуважение, а можно сказать, и пренебрежение к чужому труду. Всегда виделось так, что тот, кто портит вещи, – тратит чужие жизни. Ведь кто-то вкладывал свой труд, «человеко-часы» в любое изделие. И вот на каждом шагу: изрезанные сиденья в электричках, перевернутые телефонные будки с вырванными из них с корнем аппаратами и таксофонами, мусор, хлам, битые стекла… В простонародье постоянно наблюдаешь нечто подобное, но, что самое удивительное, – и среди интеллигенции, даже писателей эта «черта» тоже развилась особенно, махровым веником.
Не ценить труд, даже труд уборщицы, смею утверждать, – это хамство. Но ещё горше, от того, что это пренебрежение не от недостатка воспитания или образования, не только смещённая активность, а выливается в некую форму протеста, самоутверждения, даже и отмщения. Как-то раз наблюдал такой случай: уборщица-старушка мыла пол и стены, дотирала ветошкой у входа в интернациональный цех. Цеховое оборудование испытывали немцы из ФРГ. Вдруг настойчиво и как-то озлобленно-адски мрачно заныла сирена, как на каком-нибудь военном корабле. Все кинулись, чуть ли не наступая на руки уборщицы, к выходу, хотя можно было подождать минут пять, не больше. Немецкие рабочие и инженеры переглядывались, о чем-то говорили, и мне даже почудилось знакомое «швайн»… «Швайн» – то есть свинья, свинство – пришло к нам из тьмы времен, но особенно прилипло после Октябрьского переворота. Писатели даже большой величины нередко говорили, и главное (и это поражает и раздражает) – писали о своем неуважении к писательскому труду (применительно, конечно, к другим). Сплошь и рядом принижают труд коллег по поводу и без повода.
Известно отношение Льва. Толстого к Шекспиру; Гоголю он ставил – «3», а то и «1». Чехову: «Я не люблю Шекспира, но ты пишешь еще хуже…». И вот это «не люблю» – не носится при себе, а множится миллионными тиражами. Вот и В. В. Розанов в «Опавших листьях» пишет: «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души». Тут так и хочется вместо «не люблю» поставить «не понимаю». А если не понимаю – не пишу. А мы все пишем. И читатели читают. И такое отношение к труду писательскому, тяжёлому, мужскому – иначе как «швайн», а по-русски – свинством не назовёшь.
Сравнимы с писателями и философы: Лев Толстой, Вл. Соловьев, Рачинский – тем и велики, что до сих пор не поняты. Во многом непонятен и сам В. В. Розанов. Есть фразы в «Опавших листьях», которые никогда никто не поймет: «После книгопечатания любовь стала невозможной». (Почему? Все сразу уткнулись в книги, что ли? – В.К.).
После сноски – он о том же: «Какая же любовь с книгою?» И зачем-то пишет: «(Собирался на именины)», – как будто мысли о любви приходят именно тогда, когда идёшь на именины, а не на похороны. И так, читая его строки, никак не поймешь, где же он, подлинный Розанов В. В.? И – раз так-то напишет, и другой – разэтак. То он русофил, то вдруг русофоб. Его попытка описывать жизнь и события, так сказать, «с четырёх сторон» – наивна прямо-таки по-детски. Неужели не понятно, что приступать к писательству можно только и лишь тогда (и только тогда), когда вполне составился луч внутреннего внимания на мир и жизнь. Невозможно рассуждать «голографическим способом», многомерно об одном и том же, потусторонне или многосторонне, – ведь будет тогда всё ложь, всё вздор и всё неискренне.
После 17-го года голодал он, всё размышляя, и преподавал, гадая о добре и зле. Много скорбел и страдал. На излёте жизни и вовсе нищенствовал и страшно и долго болел. По воспоминаниям близких, – собирал окурки вдоль тротуара в Сергиевом Посаде. Перед смертью исповедовался и причастился. И, надеюсь, пришёл к общему знаменателю, наконец. Странно, что, читая его «философию», то и дело ловишь себя на мысли, что не веришь теперь даже и самой трагической правде всех его последних дней…
Всё двойственно в нём, как и в его писаниях. И это тот нередкий случай, о котором сказано: «…вынь прежде бревно из твоего глаза…»
1993
О величине
…Удивительный всё-таки филосуф, В.В. Розанов. Читаешь – и кажется порой, что он страдал от разжижения мозга, будто у него расшатался, расхлябался и мозг, и характер. Наивна его попытка описать любой предмет со всех сторон, в том числе и со стороны нравственной, даже удачно, порой. И тут же, в той же книге через несколько страниц о том же самом – безнравственно. Такой «приём» – потерпел полное фиаско. Яркий пример – пассажи о «микве» и прочее. И его рассуждения в «Уединённом» или в разделе «Юдаизм. Сахарна» – нередко святотатственны.
И в самом деле, он словно не замечает, что он то и дело в рассуждениях своих проваливается в инфернальное, мрачное, а ещё того чаще – в некую теплохладность (и опускается в бездны намеренно, с целью шокировать читателя, а не в поисках истины). В «Опавших листьях» совершенно нечего читать. Не чувствуешь того духа правды, который ищешь сокровенно и заведомо. Игра в интеллектуализм его надоедает очень скоро, – и тогда опустошённость вместо обретения от книги, от хвалёного этого и перехвалёного тоже со всех сторон (часто противоположных сторон) не писателя даже, а многознайки. Даже зрелый В.В. – не высок этически, всеяден, если так можно сказать… Хоть и начитан энциклопедически, бесспорно, к тому же ещё и необычайно памятлив. (Неред́ ко бывает даже и прав, но в самом корне – подпор́ чен с самого начала освоения им писательского ремесла). И всё же редко что находишь у него созвучное, редко принимаешь что-то как дар, как находку.