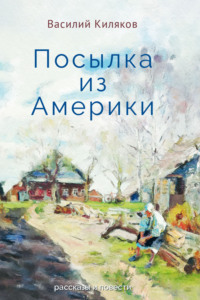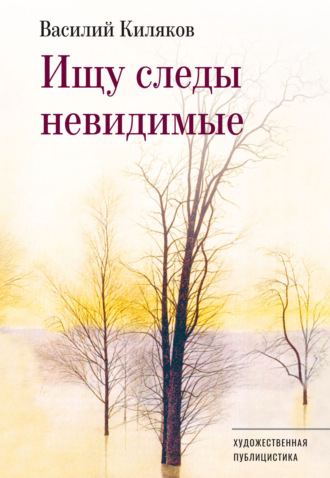
Полная версия
Ищу следы невидимые
Чем долее живёшь и читаешь книги, тем ярче и непонятнее его некая «пресмыкающаяся эрудиция» с целью «бить читателя интеллектом»; в ответ, как следствие, неминуемы и читательские запросы к писателю. И первый из этих запросов – все эти дикие нахо́дки Розанова, – они, собственно, во имя чего у него? Какое впечатление он желает оставить по прочтении? Во имя какого смысла и с какой целью всё написано, да ещё и в таком объёме? И, конечно, внутреннее отчуждение и неприятие его: нет целостного характера, крепкого впечатления… И требование ответов на вечные вопросы-поиски, на которые он, как ему кажется, даёт ответ, а на деле запутывает ещё больше. И в этом ракурсе – так весомы и убедительны слова М.П. Лобанова о Розанове: «Гениальный умственный змий В.В. Розанов, как ядовитая капля химического реактива, неустанно долбил, подтачивая, разрушая самое ядро христианства, видя в Христе врага жизни, столь любезной Василию Васильевичу ветхозаветной иудейской плодовитости».
…Мог ли он, В.В. Розанов с его эрудицией, подняться на нравственную высоту, обрести крылья для духовного полёта? Несомненно. А что же вышло? «Нравственно невменяемая личность», – сказал о нём П.Б. Струве. Пример из писаний Розанова: «План «Мёртвых душ» – в сущности, анекдот. Как и сюжет «Ревизора» – анекдот тоже», – так написано в «Опавших листьях». Если так рассуждать, то и «Анна Каренина», и «Госпожа Бовари», и «Монт-Ориоль», и многие другие шедевры – едва ли не все они – анекдоты и составлены из анекдотов, да ведь тогда «анекдотично» даже и само творчество. Даже и мопассановская повесть «Пышка» – в сущности, из анекдота. А сколько шедевров-рассказов, романов – исполнены и додум́ аны из статей газетных, из новостей и передовиц. Удивляет даже и не только легкомысленность, легкодумность и всеядность публицистическая, которую встречаешь у Розанова – едва ли не на каждой странице (особенно в суждениях), – удивляет отношение литературной общественности – той, былой́, его времени публичности (да и нашего, нового времени тоже). И в этом видится роз́ нь небывалая необходимого со второстепенным, второсортным.
Нынешняя переоценка и новомодность Розанова сродни его же отношению к «анекдоту» как к хохме. Но уже и в то время «анекдот» относили не к хохме – но к любому неординарному событию. Анекдот, может быть, так и останется анекдотом, и не более того (смотря по тому, в какие повествовательные одежды его одеть). И сам по себе едва ли просто случай неожиданный, эксцентрический вызывает интерес, важны выводы, которые способен вынести читатель из прочитанного им. Особенно даже – если это не просто игра слов вроде тех, которые в таком обилии можно услышать где-нибудь «на Привозе» – на Одесском базаре, а есть, собственно (и это главное), и тема для раздумий, и глубина…
У больших литераторов и анекдот дотягивает до больших высот и обобщений (в меру таланта рассказчика). Таков Достоевский, который из вырезки газетной создаёт «Преступление и наказание»; так и у писателей-«стилевиков», у которых «язык повествования – хорош, как замороженная клубника», – тоже из вырезки газетной рождается некая скандальная «Лолита»… И всё-то – из случая, и всё-то – из анекдота. Но это – наши писатели, а если обратиться к зарубежным: О. Генри (Уильям Сидни Портер), а Джек Лондон – их множество… И это не единственные примеры тех авторов, кто охотно даже и перекупали анекдоты с давних времён и многажды раз сотворяли из них прямо-таки шедевры. Заметки из хроники местной газетёнки едва ли не сотни раз претворялись в книги. Но это по розановским книгам – лишь один пример из великого множества его умствований, часто просто аляповато и неряшливо написанных, – зачем?!
Розанов же сам по себе весь настолько неро́вен и противоречив, что иногда подозреваешь его в сокровенном желании хоть как-то понравиться, очаровать, околдовать, запутать читателя совершенно. Какие-то танцы с бубнами, шаманские пассы вместо сюжетов и мыслей. Купить читателя на сенсацию, «угостить» жареным, влюбить в себя «по-лёгкому» – стремление честолюбивое, но невысокое.
Он удивительно угоди́л «новому мы́шлению» перестроечному, про-демократическому «Grand Tolerant», не случайно он так активно издавался и переиздавался именно в скорбные и неустойчивые «плюралистические» 1990-е. (И именно тогда, когда ещё хоть кто-то и хоть что-нибудь читал). Его внедряли как будто и с целью подтравить советского человека с его сложившейся генетически христианской (несомненно!) моралью.
Едва ли не всё, что он написал, – исключительно игра ума, мишурный блеск и блистание «интеллекта», и ничего более. И всё же в этом мире, среди «молчащих гробниц, мумий и костей» (и в слове – особенно) – остаются прежде всего Величины, а не «умственные змии». И это справедливо.
2011
Из замет
Подмосковье. Удивительно неприятно видеть указатели, на которых рядом с русскими – английские написания наших городов и весей. Почему-то мне напоминает это кадры военной хроники, когда немцы, захватывая наши города, писали на указателях те же названия, но своими латинскими буквами… Невольно приходит на ум: но тогда была война, так, может быть, и сейчас война, только по иным, тайным правилам… И всё уже завоевано: мои часы русского производства, на которых написано по-английски, города, одежда и т. д. Моё теперь – только я сам. А когда захожу в наши московские магазины с астрономическими ценами на импорт, начинаю понимать, что и я сам-то себе не принадлежу, ведь я должен обуваться и одеваться, каждый день есть, а выбирать и еду, и одежду можно только из импорта, словно мы уже ничего не производим. Так и думается: а что же будет дальше, если цены на самые необходимые товары растут так бешено? И на лицах покупателей – уныние, скрытая озабоченность, тревога… Пока ещё нет голода, а куда ни глянь, – какое-то тайное страдание душ… Предчувствие бед… И невольно приходит на ум сказанное когда-то Ролланом: «Наше время – время трусов, бегущих от страдания и шумно требующих себе право на счастье, построенное, в сущности, на несчастье других…»
* * *На дворе 93-й год. В наше смутное окаянное время никто не знает, какое очередное ярмо наденут на русский народ: парламент? монархию? Какой шум… Да ведь, по сути дела, Россия всегда, включая и советское время, была монархией. Монархия и сегодня. Частые вояжи великих князей и княгинь сомнительного происхождения похожи на кружения ворон… Ярмо наденут, но какое? Впрочем, какая разница. Ярмо, оно и есть ярмо. Главное – убедить людей, что это новое ярмо для каждого будет хорошо, как раз впору и легче прежнего. Из газет, телевидения, выступлений лидеров многочисленных партий видно, что появляются люди, владеющие искусством убеждать других. Платон в диалоге «Филеб» утверждает: «Искусство убеждать людей много выше всех искусств, так как оно делает своими рабами по доброй воле, а не по принуждению». Итак, – уметь убедить людей – самое важное. О духовных качествах самого убеждающего людей речи не идет. Они, эти убеждающие, самые разные. То есть тут – воля случая. «Появляется же искусство тогда, когда в результате ряда устроений опыта установится один общий взгляд относительно общих предметов» (Аристотель «Метафизика»). «Опыт создал науки и искусства, неопытность – случай». О том же: «Ты опытен – и дни твои направляет искусство, неопытен – и они катятся по прихоти случая». (Платон. «Горгий»). Россия перестраивается. Ублюдочная «демократия». Хозяйственные руководители получили свободу: неугодных, «высовывающихся» – сокращают. Самая типичная, излюбленная фраза чиновников: «Не нравится – пиши заявление на расчет».
* * *Тип чиновника: средних лет, модно одет – куртка и брюки исписаны нерусскими словами, штаны с генеральскими кантами, яркие. Походка тихая, вкрадчивая, взгляд острый, пронизывающий, и всегда как будто думает о производстве. Но так только кажется. Все мысли такого чиновника заняты собственными делами – урвать: отвезти в гараж или на дачу доски, трубы, цемент, кирпич… И всё это на государственном транспорте. За использование транспорта в личных целях в хваленых странах Запада наказывают премьер-министров и министров. В России – такое в порядке вещей. Между тем заседают депутаты, пишутся законы: пишутся уже не так, как при Ельцине, когда Ельцин – в пику депутатам, депутаты – в пику Ельцину. Все это кончилось тем, что, чувствуя себя прочно в кресле, зарвавшийся президент разогнал зевающий парламент. Сегодня все тихо, тише воды… А пока – законы пишутся, пишутся… Мечтаем о монархе, о «царе-батюшке»… А кругом, даже в среде мелкого чиновничества, – плюют на эти «законы». Ничего не меняется, и плодится новый тип нуворишей, незнакомый до перестроечной России: тип Эжена Растиньяка. Нигде пока еще в литературе не схваченный, не выведенный. Этот тип не будет доброхотливым меценатом, как его пытаются сегодня нам расписать… О, времена! О, чиновники! …Как бы не получили мы в конце времен не такого монарха, которого ждём и просим, а такого, от которого «и восплачем, и возрыдаем»…
* * *Запись: «Россия! Что делают с нею! В электричках, переходах метро – цветные плакаты с бегающим по сцене пастором-американцем: «Фестиваль Иисуса. В перерыве – ансамбль “Цветы жизни”». Играют на гитарах религиозные, как им кажется, гимны. Натянутый билдборд в пяти метрах над землей полноротая, толстогубая, дородная деваха с холёным лицом. На лице – полное довольство. Вытянуты два пальца. А под фотографией надпись: «Мария Деви Христос… Юсмалос…» – и ещё что-то длинное, трудно произносимое, невнятное… Какой нравственной нечистоплотностью, корыстью, чванством веет от всего этого. Можно ли вообразить себе все это в России до 1917 года? И безграмотность, бездуховность повсеместная. Перечитал и ужаснулся, ни на шаг вперед не ушли, какая уж там монархия…
1993
Благочестивому читателю
О себе: я самый бедный человек, у меня ничего нет, и самый богатый, мне ничего не надо. Когда я пишу, я нахожу для себя и для души своей какой-то посошок, костылик, сопутствующий движению и очищению. И тогда каждый человек, на которого я смотрю, становится моим другом и учителем. «Когда всё внимание людей устремлено на то, чтобы украсить земную жизнь возможно большими удобствами, трудно говорить о тех, кто, глубоко осознав и почувствовав тленность всего земного, отрешались от мира, уходили в пустыню и стремились всеми силами только к тому, чтобы, поборовши в себе самих все плотское, страстное и греховное, очистить и украсить высшую духовную сторону своего существа и приготовить полное торжество духа над плотью». Так записал религиозный писатель, мудрец, блаженный Иоанн Мосх в своем творении «Луг духовный». Книгу эту дала мне почитать дальняя родственница, милая старушка, а год издания книги – 1896! Сто лет назад так писал Иоанн Мосх, непревзойденный стилист, знаток языка, мастер формы. Такие книги прятали не так давно, читали из-под полы, и вот настало время говорить и о писателях, и о написанных ими книгах – это наше духовное наследство. Кто же этот писатель, Иоанн Мосх? Лично я ничего о нём не знаю. Мои ровесники – тоже, думаю, мало кто знает. И вот я с большим интересом читаю «Введение» к книге «Луг духовный». «Автором «Духовного луга» был, бесспорно, блаженный Иоанн Мосх. Нам неизвестны ни его родина, ни год рождения, ни то, где он получил образование». Из его творения мы можем только заключить, что он отличался обширными познаниями. Его мало занимали светские науки. Высшие вопросы религии и философии, глубокие духовные опыты – вот к чему лежала душа его, вот чем он никогда не переставал интересоваться. «Стремление к Богу и высшему нравственному совершенству руководило его научными занятиями». Так написано о писателе Иоанне Мосхе: «Стремление к Богу и высшему нравственному совершенству». Нам неизвестно, достиг ли он нравственного совершенства, думается, что само стремление к Богу и есть суть этого совершенства – вечного, бесконечного, как этот прекрасный из миров. Книга «Луг духовный» захватила в объятия мою душу, сердце… Без малого сто лет назад писано! Большой формат, твердый переплет, старая орфография… «Отъ Московского Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. 8 генваря 1896 года». И чуть ниже: «Цензор Протоиерей. Петропавловский». Много утекло воды с тех пор… Но истина не стареет. «Прогресс», взрывы научных открытий потрясали мир; человек побывал на Луне… Вырос ли человек с другой стороны, нравственной? И если вырос, то – до каких высот? Я этого не знаю. И вот писатель обращается ко мне, читателю, меньшому брату со словами напутствия: «Между тем среди огромных успехов в науке, искусстве, в обогащении, во внешнем украшении жизни можно подметить нередко глубокий вздох подавленной духовной стороны человека, порой раздается даже потрясающий вопль разочарования и отчаяния. Чувствуется какой-то глубокий внутренний разлад во всем строе современной жизни… Это происходит оттого, что все сокровища и красоты мира сего не могут дать желанного покоя бессмертному духу, созданному для Бога и вечности». Итак, сто лет тому назад чувствовался разлад «во всем строе современной жизни»… С какого же времени начался разлад в строе жизни? С появления семьи? Государства? А быть может, раньше? С началом войн начался прогресс. Научные открытия, если не все, то многие, внедрялись, прежде всего для войны. Сначала изобрели атомную бомбу, апробировали на людях, потом стали сомневаться в ценности открытия. Вторглись в гормональную, иммунную системы, в генетику человека. И вот наконец, совсем недавно открытие: существует белок тончайшей структуры, неизвестный науке прежде, с помощью которого, вводя его в кровь и пищу, можно управлять психикой человека. Внушать страх, ужас, сводить с ума, заставлять поднимать неимоверные тяжести на грани полного физического и психического истощения. И открыто это в России. «Человек-зомби» – мечта Гитлера, Муссолини – стал реальностью. Пожалуй, это пострашнее атомной бомбы. Возможно, внутренний разлад начался с того момента, когда человек убил первого мамонта и в торжестве пиршества не почувствовал, забыл или не знал слова Божьего «Не убий»?
Миллионер только что вылез из позолоченной ванны… Он заметил царапины на позолоте… – Эй, Патрикей! – крикнул миллионер слуге, оробевшему от грубого окрика. – Слушаю-с… – Чтобы сию минуту поставить золотую ванну! – Будет сделано, Ваше Сиятельство… Будет сделано…» И было сделано. И полоскались в золотых ваннах с шампанским, спали на кроватях с умеренным подогревом в зависимости от сезона. Мне приходилось слышать о ваннах в Западной Германии, которые исполняют до 170 программ с массажем, лечебно-газовым включением, с шумом морского бриза и обтиранием. Спины миллионеров Европы и Америки красны здоровьем. Только здоровье ли это, а может быть, предел разложения человеческих душ, ибо разложение, как и совершенство, – беспредельно.
«Это происходит, – пишется в обращении к благочестивому читателю, – оттого, что все сокровища и красоты мира сего не могут дать желанного покоя бессмертному духу, созданному для Бога и вечности. По мере того, как цветет и украшается внешний человек, внутренний, истинный человек как бы замирает от глада духовного.
Пристращаясь к миру и его утехам, человек живет скорее мнимой жизнью, чем настоящею, увлекается как бы призрачными сновидениями, а не бодрствует». «Ты это узнаешь, – говорит приснопамятный святитель Филарет, – когда дух твой пробудится в день благодати или в день суда». «Если мир воздвигает памятники своим великим людям, героям, поэтам и художникам, то мы не должны забывать, что были другого рода люди, для которых, как говорил митрополит Филарет, «померкли красоты мира, сладости чувственные преогорчились, земные сокровища превратились в умёты, мир явился пустынею, а пустыня – раем». Люди, которые презрели мир и всё мирское и через то явились такими, что их «не был достоин весь мир».
Охватывая мысленным взором человеческий опыт, заглядывая в «тьму времен», мы читаем «Жития» святых, мудрых старцев, опрощение человеческого бытия, и перед нами возникает образ едва ли не самого мятущегося в религии человека Руси – Льва Толстого. И тут опыт говорит нам о максимализме, с другой стороны, открываются грани русского национального характера. «Мир явился пустынею, а пустыня – раем», – по словам Филарета, а по-нынешнему – лучше пережать, чем недожать, лучше переесть, чем недоесть, или лучше вовсе голодать, чем поститься; лучше перепить, чем недопить… И даже коммунистическая мораль, внешне далекая от христианской, и та ведет к крайности: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» Может, потому так скоро и прижилась идея коммунизма именно у нас, в нашей стране, что русский человек середины не знает. Величайший знаток русской души, русского характера, Л. Толстой написал о служивом Авдееве: «– А что, Антоныч, – вдруг спросил веселый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно? – Какая же скука? – неохотно отвечал Панов. – А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал. – Вишь ты! – сказал Панов. – Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю, дай пьян нарежусь». И вот этих, «накатящих», сколько их, таких истинно русских типов в литературе! (Их можно видеть и сейчас всюду: то всё молчит, пассатижами слова не вытащишь, то – как будто полусонный… Потом вдруг накатывает… их много у Короленко в «Река играет», в рассказах Горького, Леонида Андреева, у Куприна, Скитальца и др.).
В рязанской глуши, где вся деревня разорена до мерзкого опустошения, где хоть шаром покати, заросли подворья глухой крапивой, даже там нет-нет да увидишь и услышишь «накатящего». В момент этого самого «наката», даже когда сыт, пьян и нос в табаке, когда пресыщен до предела, душа как бы выворачивается наизнанку: все дремала, выглядывала, совестилась… И вот, «нарезавшись пьян», «накатящий» выкатывается на улицу: «Все пропью, гармонь оставлю!» И крайности. И эти загибы неисправимы. И загибы эти знают, они во всех проявлениях: в частной жизни, в политике, идеологии и даже в религиозности… Уж если украшать храмы, то не иначе как серебром, золотом, так, чтобы нищие телом и духом молились иконам в серебряных или золотых окладах, а кресты самые убедительные – золотые. Но зачем Богу золото? Золото – ценность для вора. Богу же что золото, что песок. Ценность – только ве́ра. А уходит вера – храм без креста. В идеологии же – перегибы: непременно к коммунизму, и возможно скорее, и чтобы во всем мире… В политике – в каждой республике – президент, идут разговоры о президентстве в области, остановились на «мэре». Мэр же не наше словцо. «Не вмер Данило, болячкою задавило». В подражательстве, в постыдном обезьянничестве тоже не знаем границ: тащим секс-шопы из-за кордона, да что там: есть Белый дом в Америке – пусть будет и у нас. Доллар становится солнцем… И все-таки часто думается, что многое, что мы привезли с Запада, с времен Петра (первого революционера), – как бы не в коня корм, так и не пошло на пользу. Все как бы то, да не то́, как если бы мы сели и объелись французскими устрицами.
С давних времен, когда старый плотник, уже приготовившийся помирать, наказывал сыну, уходящему в извоз или отхожий промысел, где молодой встретится с самыми трудными обстоятельствами, говорил старый мастер: «Смотри в корень»… В деревне, где я родился и рос, рассказывали нечто вроде притчи: перед тем, как молодой цыган-конокрад уходил «на дело», его сначала пороли, дабы не сечь попусту, когда попадется на краже, там уже будут пороть чужие и не так, как дома…
Если вернуться к напутственному предисловию, к «Лугу духовному», – подвижник, писатель Иоанн Мосх открывает нечто такое, что не позволяет усомниться в правоте его слов, разгадывает в какой-то мере славянскую душу. С «завоеваниями» советской власти утратилась связь с религиозной культурой, которая всегда была корнем воспитания русского человека. Разорялись церкви. И что сделали самые грубые, самые недальновидные? Отделили церковь от государства. Это не Ватикан в Италии, а нечто славянское, ни на что не похожее: институт религии, духа – не в государственной обители. Между церковью и государством терялось сродство, нематериальная, духовная же связь, корни духа уходили в глубокую почву уныния, безнадежности. Если образно сравнить, то позволю себе сравнить грубо: с трибуны, перекрывая море голосов, вождь говорил об идеалах коммунизма, а люди делали вид, что слушали, и обменивались новостями: где разорили церковь, где арестовали попа, кого из подвижников сгноили в троцкистских концлагерях. И это море людское вынуждено было стоять и слушать. Эти славянские души стоят и страдают от несварения импортного «коммунизма» – очень деликатная, так и не усвоенная «прогрессивная» философская пища. Когда скопление людей рассеивалось, те, что были на трибуне и говорили о коммунизме, о светлых идеалах, дабы внушить «массам» извечную мечту «о равенстве и братстве», эти светлые головы поднимали тосты, хорошо закусывали, угощали любовниц, подумывая, однако, не отравлена ли снедь…
Тем, кому внушались идеалы братства и равенства, было хуже: они садились за стол семейно, хлебали жидкую похлебку, жевали картошку с огурцами; в угарных избах укладывались спать крестьяне, в барачной тесноте спали рабочие… И тут идеалы расходились, дух и плоть поднимали бунт. Итог всех дел на подступах антирелигиозных и коммунистических идеалов? Глубокое уныние, пессимизм, разочарование, раскаяние, как теперь говорят, не покаяние, не сожаление. Все что угодно, только не конкретные зрелые сиюминутные дела насущные. И тут, разумеется, начинает «накатывать» на носителей официальной идеологии и на «массы» – на всех. Оттого всё ширится пьянство, преступность, тупое озлобление, как злая зараза.
Крепость христианских идеалов пытались расшатать давно. Говорили и писали ереси в эпоху Грозного, казнившего будто бы и сжигавшего с «вечным поминовением» в его синодике. Великий богоискатель Толстой так и не нашел истины на пути опрощения, сближения, слияния с Богом-Отцом. Говорил одно, а жил по-другому. Идеалы коммунизма тоже оказались призрачными. Где наши идеалы? Где наша вековечная мечта, что с ней случилось? И вновь глубокое уныние. Затосковала славянская душа, закручинилась. Признак перехода всякой демократии в диктатуру – самоубийство и убийство поэтов. Пушкин, Лермонтов, Павел Васильев, Есенин, Маяковский, Клюев и др. – цепь несчастий. На каком основании мы можем судить, что цепь трагедий оборвалась? Уже в наши дни в первый год «демократии» упрятали в тюрьму таджикского поэта Л. Шерали за критику в стихах Системы, и не какой-нибудь, а «демократической». Да и не его одного. С этого и начиналась «демократия» у нас. Она была с самого начала обречена. Обречен был и СССР – именно по причине импортированной «демократии».
1992
* * *В начале 90-х погибла русская поэтесса, народный депутат СССР Юлия Друнина, лопнула еще одна надорванная струна. Фронтовичка, труженица в нашей поэзии. «Тело было обнаружено участковым 21 ноября в 17 часов, в принадлежащем ей автомобиле ВАЗ 21–06 в поселке Советский, что рядом с Троицком…» Так заурядно, до боли обычно кончилась жизнь той, строки которой никогда не забудешь… «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
…Однажды, в середине 80-х, мы еле прорвались в ЦДЛ. Стоял ноябрь в самом начале. Часов с семнадцати, туманным вечером, долго всем подмосковным литобъединением стояли мы у входа. С нами был поэт Г.М. Левин. В его квартире тогдашней старой мы читали стихи, спорили и так надоели друг другу и так устали, что Григорий Михайлович вдруг сказал: «Поедем в ЦДЛ, у меня сегодня аванс…» Все мы, как по команде, полезли в карманы за «дотациями».
У входа Левин долго хлопотал, чтобы нас пропустили. Шли с билетами СП завсегдатаи, известные в стране поэты, писатели, журналисты. И вот мы. Никто не хотел нас пропустить.
– Это поэты, – говорил швейцару Григорий Михайлович, – мои ученики…
Одного из нас, нетрезвого, не буду называть имени, не пропускали битый час. На улице моросило с ветром, у входа было тесно. Не пускали.
И вот каким-то чудом всем литобъединением мы вошли в фешенебельную залу ресторана. Горели люстры со свечами-лампочками, было душно, стояли запахи вин, жареного лука; беспорядочный разговор повисал в дыму табака. Возле бара сидели и сосали через трубочки вино – молодая смазливая женщина и мужчина – тоже молодой, мне тогдашнему ровесник. В середине зала за столиком небрежно и разухабисто сидел тот, кто написал «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса…» Он сидел в ожидании вина, лицо его было красно, глаза блестели, улыбка не сходила с лица, весь он горел каким-то трудно выразимым «поэтическим огнем». Левин о чём-то поговорил с автором знаменитой песни, назвал нас, познакомились… «Это тот, кто написал “Тачанку”, Михаил Рудерман», – шепнул мне Левин. Подали сухое вино в запечатанных бутылках, и Григорий Михайлович начал нас совестить: «Поэты, называется, бутылки не можете открыть…» На тарелках лежали куски кровавого, сочившегося красным соком мяса, до отвращения сырого и невкусного… «Это “бифштекс по-английски”, – говорил мне Левин, – держи нож, мой острый…» И я почувствовал укор: «Эх, деревня стоеросовая…»