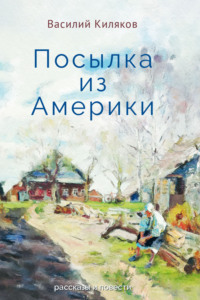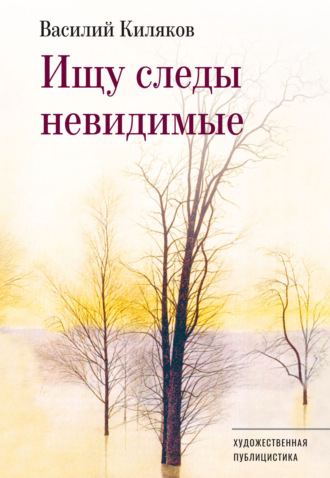
Полная версия
Ищу следы невидимые
И опять удивляешься, как понята, найдена, определена им, Шукшиным, эта боль, которая в наши дни, спустя полвека, уже начнёт так выворачивать, так чистить непокорные и неверные души, что им «и в церкви всё не так, всё не так, как надо». От этого, быть может, и взрываются метро и аэропорты – всё от той же несмолкающей боли души: «И охладеет любовь…» И если б речь шла только о непонятном, не понятом, как «о крашеном яичке на Пасху»! А и любовь-то сама ему, Тимофею, представляется «убогой», «ублюдочной», словами автора. «По Сеньке и шапка», как говорят. Или ещё так: «Какой идёт, такая и встречается». Но он – и это тоже общее правило – ищет ответа только во внешнем, не в себе. Искать ответ на свои вопросы в себе самом – об этом нет и мысли.
В развязке рассказа характер раскрывается и вовсе в интересном ракурсе. С пьяных глаз Тимофей будто бы принял тестя за Николая Угодника: «Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок». «Угодник», как ему и положено всё знать – знает, и сразу «берёт быка за рога»: «С чего тоска-то?» – «Тоска-то? А Бог её знает! Не верим больше, вот и тоска».
Тимофей не сразу открывается «Угоднику», призраку, весь разговор идёт вокруг да около: «Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим… Вот она и тоска». Разговор с «Угодником» напоминает ссору с Полиной: «спаскудился народ», «пьют, воруют»… «Я и то приворовываю на складе», «родиться бы мне ишо разок! А?».
Как же видит Тимофей своё второе рождение и «второй сеанс»? До самого «превращения» Николая Угодника в тестя идёт перечисление всех желаний Тимофея, вперемежку с жалобами: «любовь, что чирей на одном месте», «мне бы в начальстве походить». И тут – после осуждения общей жизни и мнимого сокрушения о закрытии церквей – ни капли покаяния.
«Желания» Тимофея в этой сценке с Николаем Угодником не взлетают до понимания истинных причин своей тоски. Ясно, что, если б и пожаловал ему Угодник «второй сеанс», и в этой новой жизни всё бы у Тимофея пошло по тем же рельсам, всё то́ же, что и на «сеансе первом». Ходит Тимофей в прокурорах, берёт взятки; жена, хоть и «с сахарными зубами», а счастья нет, и он похаживает к другой. Не было бы, разве, битья окон: всё же прокурор. Да и то – как сказать…
Но вот происходит превращение «Угодника» в тестя. Чудесным образом совершило это превращение желание Тимофея «законопатить» тестя за язычи́ну его, и вот он обернулся – а перед ним тесть!.. «Во́т тебе, а не другую жись! Вот тебе билетик на второй сеанс!» Всё выглядело бы поспешным, и наивным, и смешным – но читатель готов принять и это: боль ведь у человека. Другой писатель, не Шукшин, тут бы и окончил рассказ.
У Шукшина же ради другого, на́большего написан рассказ – а они в самом конце, последние слова-то и скрывают этот кураж, притворство. Вот эти последние слова: «Прости великодушно…» И тотчас ясно, что за Угодника он тестя и не принимал, и что всё это было то же: при́дурь, шутка от бо́ли, притворство – от сомнений и угрызений совести. Вот где подлинная исповедь: «В том-то и дело, что не знаю. Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б всё честно сказал, только не знаю, что такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Уката́ли сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно». Лишь здесь безысходность закончена и заменена истиной: «Прости́» (так же «ваньку валял» и Егор Прокудин, в его, Шукшина, «Калине красной»).
В один ряд с рассмотренными тремя шукшинскими рассказами можно поставить и другие. В некоторых персонаж с зачина становится в строй «тоскующих», «мучимых» совестью и терзаниями собственной души.
«По воскресениям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал её, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжёлым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.
– Опять!.. Навалилась.
– О!.. Господи… Пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина: она не знала, что́ такое тоска. – С чего тоска-то?».
Кажется иногда, что помимо воли самого автора вметаются в кощунство его персонажи. И всё от одного и того же – от поиска выхода из обыденки тусклого и мертвящего существования. Автор, как в цирке, возводит такую неприступную стену – тяжело смотреть, потом на глазах у зрителей не перепрыгивает эту стену, как ожидали, не перелетает её на крыльях, а перелезает под смех и рукоплескания довольной публики. Тут и персонаж, и автор – актёры.
Присутствие автора ощущается во всех рассказах Шукшина. Дистанция «автор – герой» порой совершенно стёрта, неприметна. Местами автор спешит: пишет и пишет, словно слыша биение собственного сердца, которое с каждым ударом отмеряет ему время жизни. И от этой спешки (по прозе его) создаётся впечатление, что и в жизни автор равен герою: всё то же – неустроенность быта, рытьё котлованов, поиски радости, поздняя семья и больная душа… Потому что – то, отчего так она «свербит», отчего так «наваливается», эта самая тоска (чего никак не понимают ни жена, ни тёща, ни друзья) – нам, пожалуй, никто так и не объяснил, не смог объяснить – ни до Шукшина, ни после его ухода.
Оттого так трогают его произведения, что они выстраданы. С ним самим – даже и не с автором, а с человеком – случилось то же, что и с его героями: тяжёлые годы учёбы, медные деньги, метания между писательством (по ночам, на кухне, с пепельницей, полной окурков, и крепким кофе) и – семьёй; между литературой – и актёрством, режиссурой с долгими отлучками… Высокие требования к себе, поспешное самообразование (на недостаток времени для образования более предметного, системного он так часто сетовал!..), первый успех – и вновь непонимание. Всё это сожгло́ жизнь замечательного, оригинального писателя, убило его на взлёте, в самом начале успеха. И тогда кинулись писать о нём: и Александр Чаковский, и не известный никому тогда молодой Владимир Коробов. Но более всего – за его русскость, за черты, дорогие нам в С. Есенине, А. Пушкине, Ф. Тютчеве – мстили ему. И особенно «сладостно» и безнаказанно – после его гибели. Некто Фридрих Горенштейн в статейке «Алтайский воспитанник московской интеллигенции (Вместо некролога)» написал, что называется, «срезал»: «Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея (курсив мой. – В. К.) – только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужи́чья, и – сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массового явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему не знакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна…»
За что же такая мстительность? И почему сегодня никто не напишет о Шукшине «толстую книгу» на премию за многие миллионы, этакий «гроссбух», «большую книгу», на общеизвестную премию? Или в библиотеку «ЖЗЛ»? Или заказа нет? А почему его, собственно, нет? Не из-за того ли, что точно известно, что́ именно, без предположения, сегодня Василий Макарович Шукшин сказал бы и написал бы о нашем, нынешнем времени (сахаровских «центрах», о «болотных» улицах и площадях, о гнусных треках, отрежиссированных в Храме Христа Спасителя для «Pussy Riot» – название, которое и произнести, и на русский-то язык перевести и прочитать, – немыслимо, дико!..); написал бы о совести, о душе, о «владельцах заводов, дворцов, пароходов»? И известно, на чьей он был бы сегодня стороне со своей всеотзывчивостью подлинно русской души.
Не простят Шукшину и того, что он предпочитал говорить со своим народом на равных (дистанция «читатель – художник» у него тоже, повторяю, равная): «Художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных» (статья «Нравственность есть правда»). И ещё: «Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман – места мало, времени мало, читают на ходу» («Как я понимаю рассказ»).
В.М. Шукшин прожил недолго, сама его жизнь была коротка́ и вся на виду, как и его рассказы – любимый им, признанный им как «неисчерпаемый» жанр. В ошибки Шукшину можно вменить лишь внешнее: разброс деталей, нанизывание необязательных сцен, «подмигивание» читателям, а главное – пренебрежительное отношение к форме. «Форма?.. – пишет он в книге «Нравственность есть правда», – форма она и есть форма: можно отлить золотую штуку, а можно в ней остудить холодец. Не в форме дело». По Шукшину, главное в ино́м: «нравственность – есть правда!».
Кто сегодня скажет, что стремление к нравственности – и есть задача задач? Вспомним, совсем недавно в России стеснялись признаться вслух: «Я – патриот», многим стыдно было – так слово это оплевали, осмеяли, унизили. Пытались унизить – таков был заказ, в такое вот поставили положение. А Шукшин не устрашился бы признать, заявить, утвердить себя патриотом, в этом нет ни малейших сомнений. И этой родовой, кровной бесстрашной черты ему не простил, не мог простить исходящий глумливой злобой всё тот же вышеназванный русскоязычный зои́л – не простил русскому того, что он – русский.
«Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным. Также и в искусстве, и в литературе: сознаёшь свою долю честно – будет толк» (Василий Шукшин).
И сам я, когда «накатывает» тоска, когда тревожит что-то душу, – не пристраиваюсь к толпе таких же грешных, как и я, «козлищ и овец», не иду к Абаю – казахскому пииту, которого удостоили памятника не где-нибудь, а в самой Белокаменной даже, на Чистопрудном. А иду в храм Божий. Или, если не складывается, – беру с полки Шукшина Василия Макаровича. Беру и перечитываю…
2013
Тайны творчества
Музыка неба
Определение из пресловутой «Википедии» о гении: «…высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности, который проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании художественных произведений, имеющих отдалённые последствия во многих областях культуры. О гениальности говорят, когда достижения расцениваются как новый этап в определённой сфере деятельности, считаются опережающими своё время, формируя зону ближайшего развития культуры. Традиционно (начиная с И. Канта) термин «гениальность» связывают с представлениями о таланте, однако многие <…> систематически различают эти понятия».
А вот что говорит толковый словарь великорусского живого языка В. Даля, и здесь кардинальное расхождение с «Википедией». Отметим: «Гений – лат. незримый, бесплотный дух, добрый или злой; дух-покровитель человека, добрый и злой. Самобытный, творческий дар в человеке; высший творческий ум; созидательная способность; высокий природный дар, дарования; самобытность изобретательного ума. Человек этих свойств или качеств. Гениальный, исполненный гения; самобытный, творческий, самодарный. Гениальность – качество, свойство гениального».
…Слава земная предполагает или всеобщую любовь и восхищение избранником судьбы – гением, или любовь многих, пусть, на первый взгляд, и не заслуженную, неоправданную (казалось бы) при жизни гения. Восхищение достоинствами или дарованиями, уважение. «И уважать себя заставил…» – у А.С. Пушкина, по насмешливому слову приме́тливого поэта, означает одно: дядюшка почи́л, ушёл в мир иной. Это не́что другое, к понятию «гений» отношения не имеющее, а – стал недоступен, отде́лен, «неотми́рен»… То же самое (по иронии А.С. Пушкина) – и все (внешние) почести почившему высокопоставленному чиновнику или богачу, не заслужившему на деле никакого почтения. Вниманием и уважением следует одаривать за достоинства более соответствующие, но они, эти дарования-заслуги (по внутреннему содержанию человека), недоступны большинству. Более того, часто непонятны, неразличимы для людей. Есть у немногих поэтов, например, у С.А. Есенина строки о наивных его, о «мальчишьих мечтах в дым» о славе, известности и обо всём, что с этим связано. Изречение мудрое не по годам: «И мечтал по-мальчишески, в дым, / что я буду бога́т и известен, / и что всеми я буду любим…» Но: «богат и известен» и «всеми… любим» – совместимо ли это, бывает ли так вообще на этом свете, в мире сём? И в этом контексте читается и весь поздний Есенин. Да разве только Есенин? А – тот же А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, а Лев Толстой?..
И вообще верно ли так категорично судить, что то́т или иной художник, в одиночку и именно он, и только он один – создал полотно́, роман, скульптуру, поэму?.. Сам, без примера, без образца, не имея предшественников, со-творил (то или иное) произведение. Поразмыслим: а возможно ли тому́ быть, например, чтобы «спикером» или «президентом» человек стал «сам», исключительно благодаря своим качествам, уму, смекалке, а не своей партии, течениям, сговорам… Сам, «и только?» – спросит дотошный читатель, и ответит: «Нет, конечно». Много случайностей должно «сойтись» и многих подводных камней избежать придётся.
Ну, с властью – тут, пожалуй, многое понятно. Властитель едва ли не весь на виду по его способностям, а как быть с художником? Сколько ничтожных вроде бы при жизни людей оказались впоследствии великими. Великий Иоганн Себастьян Бах ушёл непонятым, «прочитан» по шедеврам, случайно найденным на чердаке дома, где он жил… Винсент Ван Гог, Эдгар Аллан По, Галилео Галилей… А с гениями неназванными, в неизвестности оставшимися «иного пошиба» – как быть с ними?
…«Книги пишутся из книг», – не утаивая сарказма, ядовито повторял Гюстав Флобер, известнейший французский писатель-прозаик, величайший стилист, философ, анахоре́т и мыслитель. Сказал он так поистине с нескрываемым цинизмом завзятого афори́ста и насмешника, – бравируя колкой язвительностью характера, чертами, которые, быть может, присущи более всего именно галлам. Но и в шутке – лишь доля шутки, как известно, большая часть и в самоиронии – правда. И всё же, если человек ни разу не видел того же кино, скажем, то – снимет ли он «полнометражную ленту» в той форме и в тех традициях, которые устоялись за последний век, таких понятных нам и привычных? Вдобавок, чтобы это было именно – кино и искусство кино? Даже и лавка, и стол, стул, и повозка в новом дизайнерском исполнении с какими угодно конструктивными находками опираются на прошлые изделия. Так не участвовали ли и в самом деле все живущие с нами и до нас – в нашем новом создании, в сотворении того или иного «артефакта»? Но как участвовали, «метафорически», опытно? «Архетипически» – да, участвовали, без всякого сомнения.
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель», – изрёк А.К. Толстой в минуту откровенья и пояснил: «Вечно носились они над землёю, незримые оку». Несомненно, что и гекзаметр гомеровской «Одиссеи», и он тоже – предосуществил догадку того же А.К. Толстого. Но и Гомер не изначален, и это тоже понятно. Великий Гомер – слепой гигант, «родоначальник» эпоса, как принято считать, – тоже вовсе не интуитивно уловил тончайшую нить интонации. Мы знаем и помним Гомера, Софокла, Платона… А сколько имён не менее значительных «канули в Лету», остались неизвестны нам.
Творцы умеют настраивать некие часы и минуты и «работать на приём», обдумывая и вынашивая идеи годами, десятилетиями. И Гомер – пристально вглядываясь именно в себя (не только по слепоте своей), всматриваясь и вслушиваясь в потаённое, никому не доступное, не понятное никакому досужему взгляду, во внутреннее своё пространство, – сподобился вдруг проникнуться незримыми веяниями и почувствовал озарение (тоже не на «пустом месте»). И Гомера, несомненно, тоже предваряли великие предшественники, которые нам неизвестны за давностью времён. И он, конечно же, на них опирался. Стал высок, «встав на плечи гигантов»…
…Создатель у всех один, а прее́мники же (они же чувствительнейшие «приёмники» – гении) – сложно настроены на одну волну с самим Демиургом, не так ли? Но таковые «приёмники» редки, хоть в профессиях, хоть и в науках они и многоразличны. И в этом сокрыта тайна великая, едва ли не одна из самых значительных на земле тайн славы по́длинной, не купленной и не внушённой молвой, – и славы не от рекламной свистопляски, не от пустой шумихи, а самой достойной, оцененной и проросшей к небу самому. Той, что от опыта и от настоящей внутренней работы…
Так слепой всё тот же Гомер услышал «Илиаду», глухой Бетховен – «Лунную сонату». Моцарт, почти уже сумасшедший – свой «Ре́квием» (по себе самому – мессу, как оказалось впоследствии). Несомненно, что «Реквием» услышал живой «приёмник»-Моцарт, и – именно только «свой» реквием, а не зака́занный ему таинственным посетителем.
С.А. Есенин, по его словам, тоже «услышал» своего «Чёрного человека» почти готовым. Мопассан, страдая от спинной сухотки, – полубезумный от последствий опухоли, почти ослепший, – и он слушал (по его признанию) «двойника» – и наскоро записывал, по выражению знаменитого француза: «под диктовку», десятки страниц, едва успевая строчить карандашом на листе бумаги. В этом же перечне и «Ворон» Эдгара По. И Данте – с его главами «Ада», что позже отразила и Анна Ахматова: «Ты ль Данту диктовала страницы Ада»? Отвечает: «Я»!».
Уверен, что и А.А. Ахматова, невзирая на все её странности и противоречивые извивы её характера, – тоже была «человеком-приёмником». И она сама понимала своё исключительное (но не самодостаточное во многом) существование и понимала литературу, особенно поэзию – именно как служение, тонкое и настороженное. И сбор, и трансформацию упомянутого ею «сора» для своих стихов – музыкой свыше. Откуда? Никто не знает. И мы помним и по сей день (по слову Ахматовой) – «…из какого сора растут стихи, не ведая стыда». И не забыли острое и противоречивое «Шестое чувство» Н. Гумилёва – стихотворение, которое, собственно, о том же.
…Д.И. Менделеев так будто бы «прикорнул» однажды, что увидел воочию (во сне?) таблицу элементов. Вот оно, подлинное достоинство и таланта, и гения: уметь слышать – и услышать голос Творца всего сущего – именно через «озарение». Только и всего, кажется. Как просто. Но этому их «угадыванию», обострённому слуху и зрению (даже во сне) – предшествовали напряжённейшие годы изощрённых поисков и активного творческого труда. А главное: требовалась настройка камертона внутреннего на едва-едва уловимую Музыку Неба, на вечное её звучание – только для избранных этого мира.
Сама жизнь – одновременно и художественное полотно, и симфония. И все люди (иные неосознанно даже) в той или иной мере принимают участие и в композиции, и в созидании этого «симфонического полотна». Человек – со-творец, помощник, со-трапезник и со-исполнитель Демиурга. Участвуя в общем труде, он создаёт (и это главное) прежде всего себя самого. И вот именно это-то, и только это прежде всего – и есть самый главный момент. Осознание того, что люди, и деяния их на этой земле, и их отношения – всего лишь краски на полотне Демиурга, а Он, подлинно Творец – смешивает их на своей палитре, – и это осознание своей ничтожности перед Создателем, подчинённости Ему, – вот что самое важное. Солнечные, радостные цвета смешиваются на его палитре, а затем и на холсте мольберта. Нередко – с трагическими, иногда – с кровавыми «натюрмортами» и пейзажами. Не олифой с маслом, не взбитым белком из куриных яиц – а страданиями и молитвами истинно верующих, избранных пишется «Картина Мира». Не отсюда ли: «Быть знаменитым некрасиво» Б.Л. Пастернака? «Бог диктовал, а я писал», – сказал блаженный Августин. «Я не сам думаю, но мысли мои думают за меня…», «…И всё уж не моё, а наше, и с миром утвердилась связь…» – восхитился однажды А. Блок.
И так, человек-художник твори́т, принимая жизнь как великолепный холст и сознавая, что он и сам-то – не более, чем единственная краска Божья. Осознавая себя акварелью или маслом на палитре, всего-то – следом от удара по холсту кисти Художника… Нотой в симфонии, написанной Композитором, и только… Человек недостоин славы, и не сто́ит он никаких похвал. Но как велика самонадеянность человеческая: а, между тем, едва ли не каждый из тех, кто пишет, сочиняет – ищет именно музыку и слова́, будто бы сам, полагаясь на себя самого, и только. Не на Небо, не на Опыт…
Нынче сам я сажусь за стол, порой зная наверняка, ка́к и что́ ляжет в строку. Но – я ли это знаю?.. Или и я и сам тоже – всего лишь приёмник-копирайтер, исполняющий некий заказ?
Как, когда, где поворачивалось и «выпекалось» задуманное? Пишешь то, что впоследствии оказывается сто́ящим, – почти всегда помимо собственной воли; неприметными путями, неизречёнными, незримыми тропами – выходишь к какой-то вершине, к «финалу»… И лишь пото́м, часто через годы, а, быть может, и через десятилетия – оказывалось, что да, эту «вещь» непременно сто́ило писать. Время её пришло.
И вот что ещё странно: в процессе письма сами́м замыслом движимый, иногда вдруг приходишь к мысли совсем иной, противоположной той, которую имел в виду первоначально своей целью, итогом. И по-иному работается тогда, иногда и вовсе не логично. И неизвестно, какой «розой ветров», какими рассуждениями и суждениями, какими вехами – наша доро́га вынуждена поворачивать не вперёд и вверх, а – даже вспять поро́й.
Сам А.С. Пушкин однажды сказал своему приятелю: «Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна. Она вышла замуж! Этого я от неё не ожидал».
…Как уйти от красивого образа, как миновать «высокий» слог, когда речь заходит о мире го́рнем? Свет падает на алмаз или на линзу воображения, но только лишь один луч света – вот и всё, что видят окружающие. И только постоянная смена граней этого незримого «алмаза» – даёт вечную свежесть ощущений. Ежемгновенно, ежесекундно изменяемую и играющую удивительной гаммой цветов, разноцветьем воображенья…
Едва ли не все гении – мятущиеся, много и глубоко страдающие люди. Большинство отмечено болезнями и ранней смертью. «Гениальность и помешательство» – не только тема книги Ч. Ламброзо… Это вечная тема. Верующие или неверующие… страдают одинаково, но чаще – именно верующие люди гениальны: просто оттого, что они ближе к «первопричине всего в мире», ближе к Богу. И верующие же, от Фомы Аквинского до Игнатия Лойолы, от Ньютона до Льва Толстого – всяк по-своему, но даже и они принимали и воспринимали и слышали, способны были уловить Музыку Неба…
…Действительность – этот калейдоскоп причудливой и случайной мозаики – вздрагивает от пересыпания и «перекручивания» кристаллов, заложенных в «линзу обозрения», – так различны трактовки от Самого Создателя всего сущего, а нам кажется – и от подводных течений. А если удаётся направить и обратить к солнцу калейдоскоп – к Свету мира, – он тотчас засияет и ослепит радостью несказанного многоцветья… Всё зависит от того, куда именно направлен «алмаз», вложенный Богом в названный калейдоскоп жизни: в Небо ли или в помойную яму.
В этом изменении угла зрения – полёт тени самой Тайны. Назови как угодно «прибор» применяемый: от астролябии до теодолита, нивелира. Но точнее всё-таки – калейдоскоп. И сама сущность человека-«приёмника», слушателя Гласа Самого́ – непонятна и тоже таинственна. Ценность или ничтожность человека – именно и только в «угле зрения», в направлении его взгляда. Здесь он и есть, сам человек, и весь состав его, и значимость, и цельность (или обесцененность). И это тоже одна из главных загадок, среди множества загадок от тех, кого интересовали «глубины» души человеческой. От Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева… до А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
…И вот неведомый художник поворачивает алмазы в калейдоскопе с замиранием сердца – и не устаёт следить за игрой граней. Но и за нами самими, и за поворотами этих алмазов (и в нём самом тоже, потому что и он небезразличен) – всегда наблюдает неусыпное Око. И оно даёт и сове́т ему, и даёт и Свет. И освещает и освящает или, напротив, – лишает его и сна, и покоя…
Человек разглядел некую необычную грань и записал её, изобразил – вот, кажется, и всё. И поостынет сердце его на время, и уже неважно ему даже и то, ка́к именно воспримут изобретённое или напис́ анное им. Понято ли будет сказанное самому «широкому читателю», усвоено ли будет большинством или отвергнуто, кажется ему – всё равно. Кроме того, художник оставляет за собой право возвращаться и отделывать. Вернее, даже так: сотворённое художником и – Небом (мы говорим здесь о созданиях мастеров, а не «любителей»). Поэтому странно, что многие писатели, художники так трепетно чутки к похвалам и к порицаниям, и – так самолюбивы, так горделивы порой и тщеславны даже до болезненности. Они как бы охраняют «своё» (как им кажется: то́ именно, что принадлежит будто бы только им и никому больше: охраняют их дар, их самобытность, их преимущества). Но это – иллюзия. Подрамники, кисти, палитра, перо и бумага – вот что единственно наше. Крик первый рождения и боли – наш. Первые радости – при входе в мир Божий и скорбь при исходе из него (при русстанях души, тела) – наши. Несомненно, повторю утверждая, – наши – лишь кисти да перо, и только.