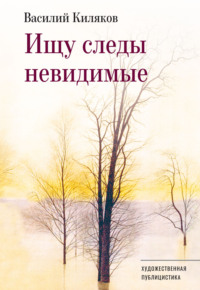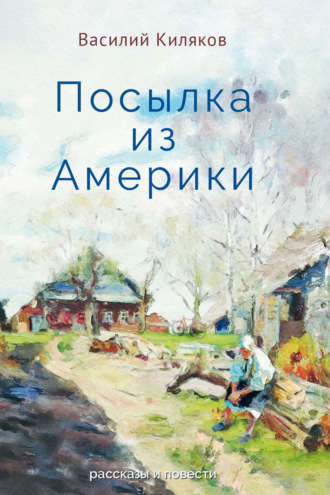
Полная версия
Посылка из Америки
– Вот охмурил, черт щербатый!
И до самой полуночи слышались по селу песни, молодые голоса, да томно вздыхали басы гармошки…
* * *Свадьбу назначили к Казанской.
Чтобы заработать деньжонок к свадьбе, купить новую пиджачную пару, белую рубаху и сапоги, а невесте – подвенечное платье, жених работал за троих, с ног сбился, расхаживая по окрестным селам и деревням: паял, лудил, крыл крыши, правил печи… За неделю до свадьбы подрядился чистить колодец в середине села. Бывало, глянешь в тот колодец – сердце замрет, а крикнешь – эхом отзовется собственный голос и долго-долго гаснет в его черной утробе. Словом, колодец самый глубокий окрест…
Стегней вставал раненько, в ряд с солнцем, приходил домой в сумерках.
Жил он теперь у тещи. К полуночи выбившись из сил, Стегней падал на кровать, спал как мертвый, а то бредил во сне несуразное… Варька слышала его голос, кашель и осторожно целовала сонного.
За три дня до свадьбы, когда осталось вычерпать грязную жижу со дна и поправить нижние венцы дубового сруба, Варька увязалась за Стегнеем: пойду, говорит, помогу тебе. Хоть грязь черпать буду, наверх поднимать.
– Жар у тебя, Стегнеюшко. Вчера ночь криком кричал.
– Нам тесно будет, Варя, не ходи, – начал было уговаривать Стег-ней невесту. – Займись своими делами…
– Чем? – встряла теща. – Дела теперь у вас общие. А и делов-то палата. Нищему собраться – только подпоясаться! Иди, иди, Варя, с мужем, авось не слиняешь, поработаешь. Холодец я сама заварю. Была б коза да курочка, состряпает и дурочка…
Стегней и Варя переглянулись, захохотали. И решили, что надо закончить к вечеру всю работу. День выдался ведреный, жаркий.
Стояли июньские дни как по заказу. Молодая зелень набрала силу, кое-где уж отцветала сирень, ржавела и никла под солнцем. На улице стаями бегали голопятые ребятишки, пересыпались с крыши на крышу воробьи…
У колодца собрались мужики, какие остались от войны, – сцепляли веревки для спуска в колодец, настраивали бадью, тесали новые дубовые венцы…
Когда мужики узнали, что Стегней будет работать с невестой, удивились: ни одна девка еще не чистила колодцы. Спустили сначала Стегнея, стали готовить Варьку.
– Ну, Варька, держись! – шутили мужики. – На дне домовой сидит. Он девок любит…
Варя тоже отшучивалась, смеялась. На ней были старые-престарые штаны, заправленные с напуском в резиновые сапоги, голова повязана линялым ситцевым платочком, а на плечах – кофточка бежевого цвета. Мужики вязали лямки, петли, точно готовили к прыжку с парашютом. Варька, красивая, стройная, стояла не шевелясь. Ни старые портки, ни линялый платок, ни дырявая кофтенка – ничто не стерло девичьего изящества: прямой стан строен, на лице – румянец, высокая, легкая, грудь тугая. Косы она заправила под платок, уложила узлом…
– Стегней! – крикнули мужики вниз. – Держи свою зазнобу крепче! Да поглядывай!
– Слышу, слышу… – глухо откликнулся Стегней.
Колодец был широкий. Варька черпала ковшом грязь, наполняла бадью, кричала мужикам: «Тащи-и!»
Мужики тянули вверх вонючую жижу. Временами попадались обрывки веревок, ржавые цепи, истлевшие тряпки… Часам к двенадцати вода пошла чище. Стегней подгонял нижние венцы в «ласточкин хвост», подтёсывал уголки. Дело подходило к концу, работа пошла веселее. Стегней нет-нет да и облапит Варьку за талию, жарко поцелует в лицо.
– Уйди, нашел время… – ругалась шепотом Варька. – Мужики увидят, на то ночь будет… – А сама так и льнула к нему.
Вода была холодная, такая холодная, что у Варьки деревенели ноги. Она уже не черпала ковшом, а прямо бадьей. Работа продвигалась споро. Тут же говорили и о свадьбе, кого пригласят из родственников и подружек Вари…
– А не сходить ли нам в сельмаг прямо ныне? – спрашивала Варя. – Деньги у нас теперь есть…
– Я у Наума попрошу, – сказал Стегней, – тоже не откажет.
Задрав голову, Стегней увидал замшелый венец, ковырнул его носком топора. И в тот же миг посыпалась труха, обломок венца упал прямо к ногам вместе с кусками глины, рухнул весь сруб…
Мужики испугались, заорали, заметались у колодца. Сбежались бабы, старики, ребятишки. Кто-то глухо бил в ведро, призывая на помощь…
Когда расчистили, растащили колодец, было уже поздно. Варька лежала без дыхания. Черным пятном кровь запеклась на челе.
Грудь Стегнея вздымалась порывисто, с хрипом. Что-то булькало у него в горле, надрывая людям сердца. Изредка можно было разобрать: «Ах… по шее пирогом! Вот так… сыграли… свадьбу…»
Все смешалось в середине села: голоса баб и мужиков, визг ребятишек, плеск жидкой глины и плотный стук бросаемых друг на друга венцов из колодца…
– Прощай, Варя, – как последний вздох выпустил из груди Стег-ней. – Прости меня… Обвенчает нас мать сыра земля…
Смаргивая набегавшие слезы, он еще что-то лепетал. Минуту-другую колыхались его плечи и грудь, но уже судорога пробегала по лицу, стискивались и скрипели зубы.
Подкатили на дрожках везти его в больницу; вечером, перед заходом солнца, он умер…
Такого еще не было в Рожнове: хоронили молодоженов. Из избы Фроси вытащили один за другим два гроба, усыпанные летними полевыми цветами. Все село высыпало на улицу, провожали в последний путь жениха и невесту. А за селом, на кладбище были вырыты две могилы рядом. К двум крестам этих могил мужики прибили доску черного цвета с надписью: «Дай им вечную любовь, Господи!»
Теперь над могилами стоит могучий тополь. Кресты забоченились, эпитафию трудно прочесть… Но как свежа память рожновцев! Стоит только остановиться на минутку, к вам подойдет кто-нибудь из селян и непременно расскажет эту историю, историю жизни и любви мастера колодезных дел, как легенду, которая не умирает.
Балагур
С неба упало три яблока:
Одно – тому, кто сказки сказывал,
Другое – тому, кто сказки написал,
А третье – тому, кто прочитал.
Тимофей Круглов женился рано.
Под стать себе облюбовал он в Рожнове скотницу Наташку – крепкую, разбитную, веселую. Молодожены жили в новом брусковом доме, ходили на праздники под руку, как сказали бы рожновские жители, – «под крендель». Высокий, сухопарый, суетный Круглов от темна до темна стерег стадо, стрелял, как из ружья, конопляным кнутом с повивкой конского волоса.
За лето скотина выбивает выгоны. Осенью в поисках отавы Тимофей уходит далеко от села. Все ложбины, лесные куртинки пролезет, а овец накормит, напоит свежей водой.
Для Наташки осенняя пора – сущее наказание: чтобы отнести обед Тимофею, она долго ищет овечье стадо, бродит по оврагам и мелколесью в любую погоду.
– Тимоша! – кричит она, сложив ладони патрубком. – Ау!..
– Ого-го-о!.. – откликается Тимофей сиплым простуженным голосом.
Чапыжник царапает руки, цепляется за одежду, а Наташка, аукая на ходу, спешит на голос.
Круглов радуется приходу жены, светлеет лицом, веселее покрикивает на овец, собирает их на поляну. Приклонив колени, с трудом разводит костер, чтобы согреться, просушить портянки, пообедать в тепле. А рядом усаживается Наташка, ногами вперед. Вынимает из сумки хлеб, чугунчик наваристых щей и крупитчатую кашу – все это она раскладывает на клеенке, не торопясь, основательно, как дома.
– Пожуй со мной, – просит ее Тимофей, не спуская добрых ласковых глаз. – Ух и хороши щи! Прямо объедение! Со свежей капустой!
– Кушай, ешь вдосталь, а мало будет – еще принесу…
Наташка подкладывает Тимофею хлеб, думает свое…
Сырой осенний ветер дует порывисто, треплет развешенные на рогатине портянки. Овцы, понурив головы, сбились в кучу. Небо грозит проливным дождем.
Наталья обирает листья, падающие с куста на клеенку, окидывает взглядом из-под руки бесприютные дали и прерывисто вздыхает.
– Бросил бы ты пастушить, Тимоша, – говорит она тихим, вкрадчивым голосом, – бросил бы. Ишь как у тебя в коленках скрипит от простуды. И от голоса отстал, на овец орамши. Перебирайся на ферму. Истопником. И тепло, и крыша над головой, и…
Тимофей делает вид, будто не слышит жены. Сороки, качаясь на ветвях, трещат отсыревшими голосами. Круглов черпает из чугуна щи деревянной ложкой. С каким-то особенным наслаждением жует кашу. Наевшись, он увязывает в белую тряпицу посуду, кости и крошки вываливает собакам.
– Никак это не выйдет, чтобы, к примеру, бросить, – нехотя говорит он. – Сердчишко прикипело к полям. Тут мне и воля, и доля. Пахом – я с ним еще подпаском начинал – так говаривал: на свободе-то, хоть сам себе голову откуси, никто тебе слова не скажет.
– Пахом? Тот, что сказкам да байкам тебя выучил?
– Он. Эх, покойник, и мастак был на сказки. Бывало, заведет, заведет – про все на свете забудешь.
– Да и ты горазд, – улыбается Наташка. – Навострился у него, навык.
И затянув потуже платок, Наташа просит сказочку. Круглов докуривает козью ножку. Затягивается глубоко, до дна легких. Начинает издалека: «Жили-были дед да бабка, ели кашу с молоком».
– Раз сидят они на лавочке, рядышком, как голубки, как вот мы с тобой – такие-то. Только старые оба, лет им под сто. Старуха вдруг возьми и запой…
Тут Тимофей меняет голос и поет тонюсенько, как могла бы петь только старуха:
Была б я легкой пташечкой,Умела б я летать…– А старик был дошлый, сумрачный. Посмотрел на свою супружницу, и тоже запел:
Беззубая ты, старая…Чем стала бы клевать?Рассказывал Тимофей всегда с самым серьезным лицом, с тоном легкого недоумения в голосе. Ждал, когда Наташка отсмеется. И лицо, и движения его – все было вкус и мера. И может быть, поэтому Наташка пуще прежнего заливалась колокольчиком, запрокидывала голову.
Присказки, байки, пословицы и канавушки как-то скрашивали неуют серого дня с низкими, тяжелыми облаками, с облетевшими, продутыми насквозь кустами и свалявшейся по низинам блеклой травой-отавой. Наговорившись вдосталь, с веселым сердцем и чувством облегчения Тимофей вскидывал кнут, сухо стрелял им, выгоняя овец на свежую поляну.
Наташка спешила на ферму, додумывая на ходу рассказанное мужем…
Так жили они в мире и согласии лет двадцать – двадцать пять. Души друг в друге не чаяли. Но вот как-то пришло из города письмо от дочери: что-то не ладилось у нее там. Прочитали и решили: надо ехать. И уехала Наталья в город. Тимофей остался один как перст – смотреть за скотиной, поберечь дом. Да вот только задержалась что-то в городе Наташка. Все писала Тимофею длинные письма, обещала вот-вот вернуться, а не ехала. Затужил Круглов, загоревал по своей «сударушке». Раз даже собрался вслед за женой. Сложил пожитки, крест-накрест заколотил окна… Да что-то раздумал. А может быть, новое письмо в прах разбило его намерение. Время шло…
Вот в такую-то плохую его пору я и застал пастуха, приехав однажды в Рожново. Было это ранней весной. Повстречались мы на задворках. Шел он тихой походкой усталого, пожившего человека. Одет был домовито, чисто: на ногах крепкие яловые сапоги с ушками, на плечах – дубленый полушубок мехом внутрь, сам простоволос. Но как-то по-особенному смотрели теперь его глаза. Не грустно, нет, а как-то просто, мирно. И горькие морщины углубились у рта.
– На почту ходил? – спросил я.
– А то куда же! – с грустной готовностью ответил он и посмотрел пристально. – Ты чей же? Не угадаю.
Я назвался.
– Без жены-то дом – сирота, – продолжал Тимофей.
Я посоветовал ему вызвать сюда всю семью.
– Куда там, – слабо махнул он рукой, – и слушать не хотят. Сказано: жена – солнце, а дети… Эх-ма, дети – это… звезды. Так и живу, как обсевок какой. А я ведь поболтать люблю, рассказать что-нито.
– Сказки, я слышал, сказываешь?
– Сказки-то? Как же, сказываю мужикам нашим. Они ко мне чуть не каждый вечор валом валят. Приходи и ты, авось не соскучишься.
Освободившись от дневных забот, я дождался сумерек. Совсем стемнело, когда я шел к Тимофею. По улице брехали собаки, а у клуба, на ярко освещенной из окон проталинке, с визгом и гиканьем тасовалась молодежь. Играл баян, звенела, точно бубен, гитара.
Я свернул вправо, к дому Круглова. Лишь отворил дверь – в лицо пахнуло теплом березовых дров, тем приятным, с детства знакомым запахом каленых поленьев. Хозяин сидел на пятках перед грубкой – невысокой маленькой печью для обогрева горницы, сидел и помешивал кочережкой в топке. Низко светила лампочка. От грубки вдоль стены висели мокрые рубахи, носки, порты. Кочережка тихо позванивала об угли, дрова с шипением рассыпа́лись.
Не успели мы перекинуться двумя-тремя словами, как вдруг протяжно взвизгнула и хлопнула дверь, и с крепким топотом добротной обуви в избу ввалились рожновские мужики из тех, что любят послушать байки.
– Вечор добрый! Как живем-можем? – спрашивали они вразнобой. Сами вольно и широко занимали лавки. И по всему: по тому, как садились они, не спрашиваясь, как закуривали, как говорили, – тотчас было видно, что они тут завсегдатаи.
– Живем! – сразу повеселев, отвечал Круглов. – Жи-вем! Хлеб с салом жуем. Приход ваш к счастью…
– Дома сидели-сидели – скука смертная, тоска зеленая. Приперлись вот. Чай, не последние…
– А я у бабы своей просил на поллитровку, – говорил широколицый ноздрястый мужик. – Просил-просил – не дала. Иди, отвечает, к Тимохе сказки послушай, авось поумнеешь.
Общий смех заглушил его последние слова.
– Милое дело! – блеснул глазами Круглов. – А тебе бы, Никодим-ка, все вино да домино. Ну, так. Грубка нагрелась, сейчас и тепло пойдет.
– Давай-давай, начинай, – торопил Башлыков, – за тем и шли.
Это был высокий плотный мужик, широкий и важный, в клетчатой канареечного цвета рубахе. Он сразу уселся прочно, точно на века, подпирая плечами стену. Я исподтишка обвел глазами собравшихся и тотчас понял: он тут за старшего.
– Вали, Тимоха!
– Согрелись!
– Начинай.
– На море-океане, на острове Буяне лежит бык печеный. В одном боку нож точеный, в другом – чеснок толченый. Знай помалкивай, да кушай, да мои побаски слушай…
Голос Тимофея, глуховатый, чуть с сипотцой, все понижался, переходя почти на шепот. И надо было видеть, слышать, а главное – чувствовать Тимофея в ту минуту. Он как бы оживал, весь преображался, исподволь додумывая что-то, щурился на слушателей, словно по лицам и фигурам схватывал их настроение и, согласно с этим настроением, отыскивал в своей памяти нужное словцо.
– В некотором царстве, в ненашем государстве, жил-был лесник, звали его Иваном. Раз пошел лесник в обход поглядеть, нет ли где порубки, порчи или озорства какого. Шел он, шел, а уж смеркаться стало. Крупный дожжик начал щелкать Ивана в лицо. Ветер поднялся сильный-пресильный, лес гудит, аки в бочке, елки ходуном ходят, скрипят, веткой об ветку стучат… Жутко стало Ивану, страшно, а до дому еще далеко-далече. Тут и темень нагрянула. Ну, идет лесник, задумался, об жене соскучился. А жена у него красавица, высокая да черноглазая, словом, пух в атласе. Тут показалось Ивану, будто бы он заблудился. «Что же это я, такой-сякой, собак с собой не взял, авось не скучно бы было!» А молонья так и жгет, так и жгет, озаряет дорогу, как днем. Гром как вдарит, и раскатилось окрест по всему лесу. Еще больше струхнул Иван, чует: сердце дрожит, как овечий хвост…
Мужики нетерпеливо завозились на скамейке. Расстегивали телогрейки, стаскивали куртки, шапки. Круглов нарочно делает паузу, «подпускает». Искоса взглядывает на мужиков. Взглянет и молчит.
– Чтой-то я не пойму, Тимоха, сказку ты сказываешь ай правду? – проговорил Никодим, раздеваясь до рубахи и закуривая верченку. – Похоже, сказку?
– Да ты слушай, не перебивай, – Башлыков строго глянул на Никодима. – Вечно ты поперек дороги, ей-богу.
– Идет Иван опушкой, – снижая голос, продолжал Круглов, – идет поляной и видит метрах в пяти высокую сосну. Та сосна без вершинки. И ни веточки тебе, ни сучочка – все как есть грозой спалило. Лесник смотрит, до-олго смотрел – что такое? Тут не было дерева без вершинки. Глядь, откуда ни возьмись на самом верху показалась большу-ущая змея, кажись, в человеческий рост. Обжала сосну. Сидит помалкивает. Иван так и обмер. Однако снимает с плеча ружье, вскидывает, кричит: «Ах ты, злодейка, а ну, слазь оттэ-да!»
Гаркнул он так-то и сам не рад. Трясется, метится змее в голову, курок пальчиком потрогивает. «Счас, – думает, – я тебя дуплетом смажу, слетишь как милая». И вдруг слышит: «Ш-ш-ш», – змея зашипела, как гусак. Да… Зашипела и говорит бабьим языком, тонюсеньким и острым, как бритва: «Не стреляй мене, Иван Демьяныч, я тебе пригожусь». Собрался с духом Иван, отвечает: «А что ты мне дашь?» Сам все метится в голову, молитвы шепчет: «Запирающи врата спасительной рукой…» Слазь оттэда! Знай наших рожновских да не путай с осиновскими!.. «Печать Христа, печать Божьей Матери…» Слазь! Храбрая, значит?!» Змея видит, что дело сурьезное: укокошит лесник с испугу. Отвечает ласково-преласково, как шшекотливая бабенка: «Коли хочешь злата-серебра, видимо-невидимо дам. Сколько дотащишь». Иван Демьяныч навострил уши топориком и начал умишком раскидывать: на кой ляд ему это серебро? Куда его сплавить? Милиция узнает, пронюхает это дело и отправит в Колым-край. В сельмаге Нюрка-продавщица только медные деньги берет, а их не утащишь много. Задача!
Акулина, жена его, жадная-прежадная была. Ей сколько с получки ни отдай – всё в чулок прячет, а бабий чулок, известно, сроду не наполнишь, потому как вытягивается. Иван умишком был туговат, стоял, скреб в голове, думал…
«А хочешь все знать? – это снова ему, дураку, змея-то шипит. – Все будешь знать, что только ни пожелаешь». Иван опять зачесался – плохо до него доходило, через ноги. Ну, однако, кричит: «Я согласный, чтоб все знать!» – «Да ты опусти, дурень, ружье-то, положи на плечо, – усталым голосом толковала змея. – Убери ружье и ступай себе с богом. Да смотри в оба! О нашем уговоре не разбреши кому-либо. Ни гу-гу! Помни же! Коли тайну раскроешь, тут и помрешь в одночасье. Особенно Акульки своей остерегайся, дюже она любопытная…» – «Ладно-ладно, знаю я свою Акульку. Вот, учит жить».
Тут молонья как жиганет – и ослепила лесника. Поднялся ветер, прямо буря! Иван проморгался, протер глаза, глядь-поглядь, а змеи как и не бывало, след простыл. «Ну, уползла и уползла, ляд с тобою, – думает Иван. – Не больно и нужна была. Как-нибудь дотащусь до дому. Вон и тропа приметная». Пошел он ходко, дай бог ноги, а все оглядывается: нет ли змеи за ним. «А дай-ка я загадаю, – проговорил он вслух, – что такое мне Акулина на ужин сварганила?» И только он это молвил, рванул ветер, вздыбил ветки на деревьях. Молодая осинка склонилась к Ивану и нашептывает: «Акулина заварила тебе похлебку из требухи, да замешкалась и пересолила. А сосед Николай расселся на лавке твоей под иконами, как фон-барон, и хохочет. Акулина тоже смеется. «Муж мой, – говорит, – неотеса, пень дремучий, дурак косоногий, сожрет и пересоленную. Не мил он мне, не люб…» Никола, сосед, вьется вокруг нее вьюном, любовные слова толкует, всё целуются да милуются…» «Хватит, – крикнул Иван, – достаточно». И еще шире зашагал к дому.
Мужики захохотали все враз. Тимофей помолчал строго, затянулся дымом.
– А дальше-то? – добирался до клубнички Никодим, мужик ревнивый и злой на свою прекрасную половину. – Я б ее, стерву, поучил по-русски за такие амуры. Я б ей быстро подол на голове завязал!
Тимофей, пуская струями дым, пряча улыбку, продолжал:
– Пришел Иванушка домой, стучит… Николка услышал – и шасть в окно. Акулина отворила дверь, пустила Ивана, помалкивает. «Ты что, такая-сякая немазаная, похлебку-то пересолила? Что я буду есть? А Николай где? Что тут делал? По какому такому праву он к тебе шляется? Отвечай, кривозубая!» А жена: «Да ты спробуй похлебку-то. Откуда известно, что пересоленная?! И какой Николай? Никакого Николая слыхом не слыхивала, видом не видывала!» Сама руки в боки уперла, бровями двигает. «Брешешь, – наступает на нее Иван, – я твои шашни знаю! И куда сало прячешь, знаю, и сколько денег заначиваешь – про все мне теперь доподлинно известно!» Тут Иван сунул руку под матрац, достал капроновый чулок с облигациями и потряс им над головой.
Акулина, баба грудастая, с горкой нечесаных на макушке волос, трясет подолом, нахально играет скулами: не знаю, мол, про что толкуешь, а деньги на черный день берегу… Ну, однако, поорали, полаялись, угомонились. Акулина ночь не спит, все думает: «Откуда муж про все дела знает?» И захотелось ей пуще всего на свете узнать тот секрет. Стала она приставать к леснику, выведывать да вынюхивать. Правдами и неправдами, лестью и лаской, так и эдак – лесник знай себе помалкивает, рот на крючок. И вот раз Акулина нарядилась, как на праздник, завязала в узел все свои платья-наряды и говорит так грустно-прегрустно: «Ухожу от тебя, миленок, куда глазоньки глядят. Люблю тебя пуще жизни, а придется покинуть. Не веришь ты мне, не говоришь тайны, и сердце твое закрыто для меня навек». Да… Сказала так-то и стоит ждет. «Да пойми ты, дура-баба, не могу, зарок дал!» Лесник был смирный и любил свою Акулину несусветно. «Нет, муженек, прощай!»
Затужил Иван: что, как и впрямь покинет? Плохо ли, хорошо ли, а жили до сих пор. «Нет, – думает, – отпущать из дому бабу не след. Может, еще и смилуется надо мной змея-то…»
Пошел он в сельмаг, попросил у Нюрки четушку водки, хлебнул корец, а зажевать – ничуточки не зажевал, только хлебушка понюхал. Дома и говорит жене: «Знай, Акуля, помру я, коли секрет раскрою». А Акулина страсть какая любопытная была, дерзкая да напористая. Отвечает – уши режет: «Говори, косоногий, в последний раз прошу. Узелок готов, юбки, платья и платки – все тут, все забрала. Пойду искать счастья по белу свету, авось полюбит кто-нибудь и меня, горемычную!» И заплакала, запричитала.
«Эх, головушка моя горькая, судьбина лютая. Делать нечего, надо рассказывать, – прошептал Иван. – Дай мне, жена, хоть в банешку сходить, исподнее сменить да в гроб лечь». А та и рада-радешенька. Приготовила Ивану белые тапочки, исподнее из сундука. Приоделся Иван, приготовился к смерти. Лег в гроб, руки косым крестом сложил.
– Оттак от, – Тимофей показал, как лежал в гробу Иван, – и поглядывает на Акулину, глазами хлоп-хлоп.
Акулька слезы притворные вытерла, села в возглавии, ушки на макушке, харю скосоротила, губки крашеные сердечком сложила…
– От стерва! Надо же! – сжал кулаки Семен Балков, мужик молодой, красивый какой-то цыганской красотой. – Все приготовила?
– Ну да, все как есть. Села и ждет. Все чин чином: и штаны черные, и руки Иван вот так вот сложил…
Тимофей и тут бил не в бровь, а в глаз. Он показал, как у лесника были сложены руки, косая нога в белом тапочке выкинута из гроба, а глаза скорбные-скорбные, – все он примерил, как это было.
– Да… Лежит Иван в гробовой колоде и думает… А помирать-то кому же охота. Как ни горька житуха, а все лучше, чем на том свете. К тому же помирать из-за пустяков, из-за бабьего любопытства – последнее дело. «Ну слушай, – говорит он Акулине, – двум смертям не бывать, а одной не миновать». А дверь вдруг возьми да распахнись от ветра. И ввалились в избу куры. Петух квохчет, не пускает их от порога. Одна наседка, белая такая с подпалинами, шагнула было дальше, петух раз ее в темя, клюнул. Иван поднял голову с подушки, смо-отрит, впристаль так смотрел. И говорит своей бабе: «Глянь-ка, садовая голова! Петух и тот хозяин на птичьем дворе, порядок в курином семействе наводит. А я тут кто? Можешь ты мне отвечать? Чего рот-то раззявила?» – и с этими словами выскочил он из гроба, хвать Акулину в охапку и давай ее вместо себя в колоду тискать. Толкает он в гроб Акульку, а сам нашептывает: «Змея, а змея, все ли я так делаю, все ли ладно?» А она ему шипит в ухо: «Так, Иван Демьяныч, так ее распротак! Жми, дави ее пуще прежнего, лучше любить будет». Акулина орет дурным голосом: «Ой, Ванюша! Отпусти ты мене, за-ради Бога! Открой крышку, дай воздуха глотнуть. Сало на чердаке под вениками, деньги в чуланчике – сам знаешь. Возьми сколько хочешь, хоть все. Ой, помру-задохнусь. А Николку и на дух к себе не подпущу. Ой, пусти! Пусти же, тут тесно!»
Мужики засмеялись:
– Молодец Иван, проучил Акульку.
– Молодец, чего там!
– Хват-парень!
Тимофей продолжал невозмутимо:
– Жалко стало Ивану, хоть и заполошная баба Акулина, а сердцем присох к ней. Открыл он крышку, выходи, говорит, выходи да будь человеком. Акулина полезла к нему на грудь. Целует, милует, прости, мол, муженек, меня неразумную. И стали они жить да поживать и добра наживать. Я разок пришел повидаться, они зачали целоваться, а в другой раз забрел погреться, они начали… Всё…
– Всё? – удивился Никодим. – Ай да ловко! У меня теща такая-то: любопытная – ужас! А язык – это не язык, а нож острый.
Посидели в молчании минуту-другую. Тимофей пошевеливал кочережкой в грубке, собирал в горку жар – рдяные угольки. Чувствовалось, что не всех проняла его сказка.
– А то вот еще, – сказал он и подсунул дымящуюся кочергу в колосник. – Мне Пахом рассказывал, давно это было… В одной жаркой-прежаркой стране жил-был прынц-султан-хан. И был он знатен и богат. Денег – куры не клевали.