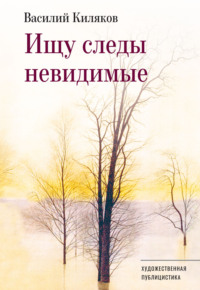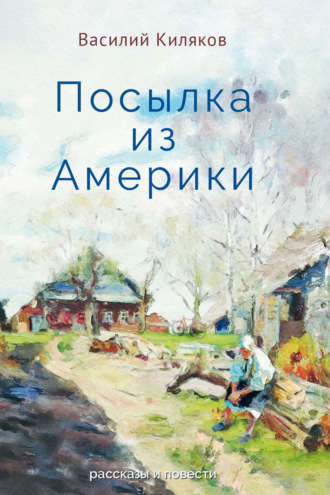
Полная версия
Посылка из Америки
– Глянь-ка, Артамоша, славное жаркое?
Заячья тушка роняла капли крови. Одна упала Артамону на руку. Он медленно отвернулся, побледнел лицом и вдруг кинулся к лохани с помоями, зажав ладонью нос и рот.
– Убери! – его душили рвоты.
Я оторопел. В первую минуту хотел окликнуть Артамона, спросить, что случилось. Понюхал тушку. Заяц как заяц, свежий, ароматный… Дарья, бросив ухват в угол, поспешила ко мне и, вцепившись в рукав, потащила вместе с зайцем в сени. Вытирая мокрой ветошкой кровь с половиц и густо посыпая пол хлоркой, она говорила:
– Извини ты его. Болен он. С самой войны мается… Крови и на дух не переносит…
– Старые раны?
Я ничего не понимал, стоял как вкопанный.
– И раны, и эта самая ал… Аррелгия привязалась.
– Аллергия?
– Ну да. И что за зараза такая. До войны и слыхом о ней не слыхивали… Мясного – куска в рот не берет. От одного запаха ломает его, места себе не находит. Дома, считай, и не живет. Все на работе, все на пчельнике, все от мяса спасается. Осень, по селу-то скотину режут, боровков палят.
– Вон оно что! А ребятишки? Неужто и они постятся? – зачем-то спросил я, словно бы извиняясь за свою недавнюю оплошность и все еще не веря.
– Ну-у… постятся… Зачем… Едим. Вот проводим Артамона на пасеку, соседа позову, баранчика забьем. Ребятам без мяса никак невозможно, растут. Да и сама я страсть люблю щи наваристые!
Все это время она тщательно полоскала кровавую ветошку.
– Так с войны это?
– С войны… Как пришел с госпиталя, и сам мучается, и нам с ним беда…
Дарья все говорила, говорила, вздыхала. Густой запах хлорки першил в горле, до слез точил глаза. Я взялся помочь хозяйке, протер чистым рушником вымытые с мылом руки, делая это с особой тщательностью человека виноватого.
Как Дарья ни спешила, как ни старалась она, все же запах свежины успел устояться в сенцах. «Дернула меня нелегкая гостить так неудачно…» – ругал я себя в душе. Брезгливо спрятал руки за спину, точно совершил убийство. Убрав мокрые тряпки и копаясь в ведре со сбоем, Дарья разговаривала громко:
– Хошь верь, а хошь нет, а убитого зайца вижу впервые. Охотников-то, сам знаешь, у нас сроду не бывало. Ведь это баловство одно, весь день лодыря гонять по лесу. А свежинка хороша! Теперь бы эти отходы почистить, помыть да щей из потрохов сварганить. Эх и хлёбово! Ребятишек за уши не оттащишь.
– Ох, гибну! Ох… – слышалось из горницы.
– Ну, заойкал, – с сердцем сказала Дарья. – Потерпишь, не впервой.
С этими словами хозяйка поспешила сложить все добро во флягу из-под молока, плотно закрыла и тушку, и сбой, вытерла крышку чистой тряпицей с хлоркой.
…А из горницы все продолжался стон. Мы еще раз вымыли руки с мылом и вошли в комнаты. На лавке перед окном, навзничь, лицом вверх лежал Артамон и самыми солеными словами ругал себя и болезнь. Щеки его сделались одутловатыми и белыми, точно плат, глаза запухли – жалко взглянуть. Он лежал и ругался в черта, в бога и в больницу, и, когда его отборная брань уже мало-помалу потеряла свой смысл и цену, а слова перестали казаться обидными, вот что услышал я.
– И болезнь-то не как у людей, – стоном стонал Артамон. – Вначале признали подагру, ан нет, не подагра. Прилипчивая, как чума…
– А не лечишься!
– И-и! Не лечишься, что толку!
С печи, хоронясь за занавеской, со страхом и любопытством смотрели на деда внучата. Наконец он отдышался, тяжко встал с лавки, потянулся к столу.
– Аллергию будем лечить… – мрачно пошутил Артамон. Выпив, он повеселел, придвинулся к Дарье, все еще сидевшей с рюмкой в руках.
– Пей, Дарья Ивановна, не церемонься. Первая идет колом, вторая соколом, а третья мелкой пташечкой.
– Похоже, оклемался, – с улыбкой глядя на мужа, сказала Дарья. – Смотри, кабы хуже не было…
– Отутбил, отошел! – весело крикнул Артамон. – Ты, Дарья, не боись, от водки кровь густеет и шея толстеет!
– Шея у тебя ровно у паровоза, – поддержала шутку Дарья. – Не подумай, что толстая, – такая грязная.
Я посмотрел на приятеля, на его шею: тонка, точно у подростка, с замысловатыми морщинами, несмотря на осеннюю пору – загорелая до черноты. Под мочками ушей трепетно и слабо бились набрякшие венки. Он ковырялся вилкой в салате из свеклы, резанной ломтиками, соломкой и шашечками, ел мало, а говорил много; так и сыпал присказками да поговорками, наконец и вовсе отложил хлеб.
– Захорошело, – сказал он радостно. Погладил себя по животу и запел частушку:
Девушки вы, девушки,Не будьте ревноватые,Любите раненых ребят,Они не виноватые.Но забрал высоко, сорвался на фистулу, разом осадил голос и закашлялся. Крепко стукнул кулаком по столешнице, с хрипом выдохнул:
– Эх, не забыть нам годы боевые!
– Забрало, однако, – жалостливо и недовольно проворчала хозяйка. – Теперь всю ночь будет зубами скрипеть, родимец. Детишкам уж спать пора.
Ребятишки запросили пить. Дарья поила их молоком из крынки. Артамон сидел, облокотясь на стол, думал о чем-то своем. Когда все смолкли, он закрыл дверь горницы, растолкал створки окна – пахнуло свежестью первых заморозков. Ни звука, ни огонька, ни движения. Ночь в Ольховке черна, как пропасть.
– Что же это такое, Артамон? – спросил я. – Ты же всегда такой задорный был…
– Буян… да… – блеснул он глазами и дальше – грустно. – Во всем виновата война, мой друг.
Артамон расстегнул ворот рубахи.
– Только она-с-с… Потом пошло-поехало. Сломался, ослаб. Теперь чем дале – хуже…
– Ранило?
– Долго рассказывать…
Я не настаивал. Некоторое время сидели молча, и было слышно, как тихонько звенит-поигрывает электрическая лампочка под потолком. Артамон заговорил внезапно и торопливо. Я с удивлением взглянул на него.
– Наступали ночью… Хлад, град видел. Три года подряд меня смерть по земле хороводила, а тут… Нервы, что ль, сдали? Ночь, тьма, сидели в мокрой траншее. А за нами, за первой ниткой и еще дальше, за пригорком, одна за другой снуют сигнальные ракеты – тонко, как комары, пищат… Хлопают ракетницы, лает где-то мотор самолета, прожектора там и сям щупают светом: хватит ли места для бойни. Кашлянешь и сам слышишь, что звук какой-то чужой, нездешний, как из могилы – такая темь. Вдруг кто-то в ухо как гаркнет: «Шестая, вперед!» Кинулись мы в ночь, в пустоту, в смерть. И знаешь, захотелось вдруг стать маленьким, с кулак величиной, величиной со свое сердце… Не страх… какой там страх, там не до страха, сам помнишь, а вот как-то чертовски весело и любопытно. И еще просто… очень просто все, неужто вот так просто и умирают? И еще: не верится в смерть. В чью-то гибель другого, вот здесь, рядом – веришь, в свою – нет. Такая глупость.
Черт знает с чего я тогда умирать собрался, словно чувствовал… Ну ладно… Бежим молча. Прыг да прыг через канавы. А канавы-то чуть видно. Где один упадет, – там другой прыгает. А по нам за полверсты из миномета… Как бы это тебе передать… Гребень черной земли взвился впереди, и как будто волной кинуло меня вниз лицом… и на голову – грязь. И сыпалась эта самая грязь на меня будто бы целую вечность. Хочу голову поднять, а не могу. Чудится, плыву я по ночному морю, черному-черному. А лодка подо мной плоскодонная, ветхая, с изъяном. Вот-вот, кажется, соскользну с нее, и тогда прости-прощай, швырнет, смоет и зароет в этой непроглядной бегучей мгле… Тут охнул я и повалился куда-то и вовсе вниз, как в преисподнюю. И ничего не помню.
Стал приходить в себя – затылок болит, точно меня поленом чухнули. Рвать стало – сил нет. Так и мутит, так наизнанку и выворачивает. Блюю бог знает чем – желчью, какой-то водицей, едкой такой жижей.
Артамон налил кружку заварки и говорил, держа кружку в руке, разливая по скатерти крутой чай и не замечая этого…
– Оказалось, лежу в воронке. Попробовал сесть – качнулась земля, и так тошно показалось, что и умереть впору. До рассвета я сидел так-то, покачиваясь из стороны в сторону. В голове точно колокол пел и гудел на разные голоса. И до рассвета же не смолкала канонада, а по правую руку стояло зарево. Стихло не вдруг. И знаешь, как я почувствовал, что стихло? Руками! Земля перестала дрожать. Смахнул я грязь с головы, шасть за шиворот – кровь. Снег вокруг талый, а на нем тоже кровь, как тертый красный кирпич, мелко-мелко просыпанный. На руках кровь, вокруг – кровь, и будто даже и само небо в крови. Солнце пекло жестко прямо в лицо. Снег протек через шинель, а меня трясет всего, и чудится, будто это кровь из меня хлещет – одурел, значит, совсем. Язык запух – рот не откроешь, и пить хотелось так, хоть в голос реви. Нащупаю я снег обочь, кладу на губы, схвачу – и сосу. А он крупитчатый, острый, как битое стекло. Сколько так пролежал – не ведаю. Помню только: все несло ветром откуда-то, гарью не гарью, смрадом, да так остро, что на глаза слезы наворачивались. И лежал я в этом запахе, точно во мху: ни вздохнуть, ни голоса подать… Снова рвать стало. «Что такое за притча, – думаю, – ведь во рту у меня уж, почитай, сутки маковой росинки не было».
Артамон поежился от холода, притворил окно и тихим глухим голосом, боясь разбудить жену и ребятишек, продолжал:
– Но это я думал, что сутки, а оказалось – двое. Ничего не ел я и потом, в дивизионном лазарете. Глянуть на еду не мог. А тут еще молодого солдатика доставили, пехотинца. Шустрый был такой татарчонок, без руки, только кровавая култышка. Стон, крики, жалобы – яд! Стал примечать я, что вида крови и вовсе переносить не могу… Увижу пятно на чьей-нибудь повязке, и аж дух займется. И вот что главное: знаю, что и окно открыто, и воздуха вокруг полно, и вот май на дворе, самая цветень и все такое, и любовь, и жизнь – это я знаю… А чудится, пахнет той самой тошной гарью и еще чем-то ядовитым, бьющим в темя.
Раз так-то сижу я ночью, не сплю – ну никак не засыпается. Колотит меня, ровно с похмелья. Дверь открылась, гляжу – доктор. Седой такой старик, как серебряный, и злой, как сатана. Вошел он в палату, спрашивает, чего, мол, сидишь. А я молчу, с открытыми глазами лежу, дом, деревню вспоминаю, и что-то зрела в душе великая обида на всех и вся… На жизнь, на себя… Кто его знает. Смотрю – сел он в ногах моих, пожурил отечески. Откуда? Как? Где семья?
Теплый такой мужик оказался этот доктор. С виду щупленький, а душа большая. «Что же, – говорю, – со мной делается, мать честная! – это я-то ему. – Что за зараза такая, чума въедливая!»
И нашел же этот самый доктор что сказать мне. Про себя рассказал… Много… Большущий человек. Умница.
Утром передвинули мою кровать к окну. Потом и вовсе выставили по моей же просьбе, поместили в деревянном домишке – госпиталь-то в селе стоял. И ничего, успокоился я, словно у себя дома осел, в Ольховке. Ходила за мной девчушка, худенькая такая, шустрая егоза. Принесет обед, сама сядет рядом, охватит ручонками коленки острые, в рот мне глядит. Глазенки черненькие, с блеском, как тер-новинки. Я на нее, помню, не нарадовался. Подала она мне раз так-то холодной телятины! Как увидел я, обмер и слова сказать не могу. Девчонка в крик – и в двери, за доктором. Тот пришел, улыбается, телятину бросил, меня растер. Гляжу в зеркало – глаза с кровью. Натер он меня спиртом, чтобы, значит, дух мясной отшибить, и говорит: «Голубых ты теперь кровей, русский солдат Артамон Нохонов. Мяса тебе и на дух нельзя. Травку кушай. Увидишь, как голова посветлеет, тело полегчает, и табак свой проклятый скоро бросишь».
Артамон улыбнулся, как мне показалось, через силу, сквозь слезу.
– Голубых я кровей теперь, Гена, на вечные времена. Голубых, порченых… А где же моя-то, красная? Что с ней сделалось? И вот ведь где сволочь – маета: задумаем какую-нито животину зарезать – ярку там, боровка ли, Дарья соседа зовет. Да что там! Курицам головы рубить забыл как. Вот они, брат, такие-то дела…
В горнице стояла угнетающая тишина, лишь мерно стучали ходики. Спать не хотелось вовсе. Артамон вдруг взбодрился, точно оторвал от себя что-то.
– Ну что приуныл, друг сердешный? Вот как в гости-то ко мне ехать к такому-то. Небось думаешь: распустил нюни Артамоша, расплакался в жилетку, хлюпик… Ну, ну, это я так, к слову. Ты про себя-то, про себя мне еще не рассказал. Что, богат? Женат?
– Живем-колотимся, жуем-торопимся, глотаем-давимся, никогда не поправимся!
Артамон засмеялся.
– Ну, ин будь по-твоему. Не поправимся, так не поправимся. Давай-ка почивать, гость дорогой. Завтра я тебе хозяйство покажу, пасеку. Я, брат, весь колхоз медком радую. Имей в виду, радую… Ох и медок! Весной чистый, янтаревый, гречишный.
Часу в четвертом мы укладывались спать, как братья, на широкой деревянной кровати. Меня поразила белизна, старческая худоба моего друга, его точеная фигурка с лиловыми шрамами между лопаток… Я внутренне ахнул.
Артамон, точно стыдясь своей наготы, подошел к простенку, щелкнул выключателем. Заснули не враз. В ночи он все вставал, курил…
– Теперь бы жить да жить, – говорил он. – Дом, огород, садик. Деньжата у Дарьи в загашнике не переводятся. Наташка вот только… Прямо беда с ней. Да эта кровь еще моя, голубая, прокисшая, пополам с войной размешанная.
Я долго не спал. Терпеливо лежал, точно дожидался, когда выкроится из ночной тьмы синий четырехугольник окна… В дремоте Артамон и впрямь все скрипел зубами, бормотал, а утром встал чуть свет, и мы, еле разломавшись, ушли с ним на пчельник утеплять омшаник.
Знак
Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальца, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу…
Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имела форму улья. Я не спуская глаз смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.
Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колючими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала заводиться – ворчать так, чтобы слышал Кузьма.
– И чего ходит? – ныла бабка. – От делов отводит… Вот и ходит, и ходит…
– Мать, а мать, – по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку – он называл ее «мать», – дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь…
– Вот как сойдутся пара – лапоть да сапог, не разлей вода… И все «дай» им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина…
Бабка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала не часто, только на праздники: престольные или советские, и тогда бабка, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.
– Мужики, – растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка, – мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка, и в уборную захотели?
И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:
– А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!
И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили…
Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы. Даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.
– …Слыхал, что наговорили тут эти вояки? – спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. – Слыхал? – спрашивал дед после очередного сборища. – Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языки они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племяш. Да эти-то все на фронт попали когда?
– Когда? – переспрашивал Кузьма без интереса.
– Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали, худо им было, необстрелянным-то.
… Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков-инвалидов: один – с культей, другой – без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги, – живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» за май этого года статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения». В 1942 году, 20 июля, вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин – Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины, на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь…»
Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо – и Кузьма, и дед, и двое инвалидов – все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, жесткую желтую солонину с аппетитным мясцом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.
Бабка приносила грузди ароматные, исчерна розовые в рассоле, и пухлые оладушки. От самогона отказывалась, ее неволили, силком усаживали на табуретку, она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой: «Ну яд, как есть яд…»
В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я приладился с уроками на краешек подоконника. В горнице дым стоял коромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебивали друг друга, спорили, упрекали. Наконец опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.
– Ха-ха-ха, – громко смеялся дед Кузьма, – верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали…
– Да ты слушай, Кузя… На фронт-то забирали кого в чем: старенькие сапоги, телогрейка. В шапках, годных только на галчиные гнезда. А в холщовых сумках за плечами – яички, сухарики, пышечки-фуишечки… Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных, всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, навострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слез выплакали. Мой младшенький влепился в меня: «Тятька, возьми меня с собой». В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семен Таракан без ноги, да я из плена. От Сонино часов пять шел. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.
Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тружусь над прописями, а сам напряженно вслушивался.
– А меня бог миловал, – весело, смеясь, говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он все же хитрый, умный, лучше всех из Выселок. – Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий…
– Ты сам себя миловал, ловчил, – оборвал его дед Терентий. – Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на веревочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.
Мужики все загудели недовольно.
– Я тогда золотарем был…
– Да знаю, что не комиссаром. Ты и сейчас-то все плутуешь, выгадываешь.
Мужики заговорили громко, все больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырех братьев деда моего погибло двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счет шел громкий, старики ошибались, поправляли самих себя, а мы с бабкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим – плач не плач, смех не смех… «Ну-ка глянь, чего он там, дед-то… Вот горемыка-то, – ворчала бабка незлобиво, – чего-то выкозюливает, глянь-ка».
Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.
Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в оттепель, ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли бередить душу, бог его знает. А тут, по пьянке, при долгой беседе, да еще в такой день, не выдержала душа обиды, не теленок ведь, человек…
Сидели за плен не все. Деда только «таскали», как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.
– Ну, чего он там притих-то? – спросила бабка, когда я вернулся в кухню. – Чего, язык-то корова отжевала?
И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу, начала ругаться:
– Ка́пли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положи, а вот неймется. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги…
– Молчи, дура, дура стоеросовая! – озлился дед. – Ты знак посмотри, не видала же…
Бабка уже плохо видела след далекой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила зачем-то меня за руку и увела в кухню. И чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.
В горнице стало тихо, как будто там никого не было, хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:
– Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!
И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова «вся», как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла начатую когда-то из заначки бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.
Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез хромого с резиновой набивкой снизу…
Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак: открытый острый угол, верно, много раз подновляли, размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же – никогда и никому. И это, если понять его стыд, была и в самом деле глубокая трагедия человеческой души. И вот я выписал из той же «Недели» статью полувековой послевоенной давности: «Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскаленной ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции». Так приказал шеф Верховного командования.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.