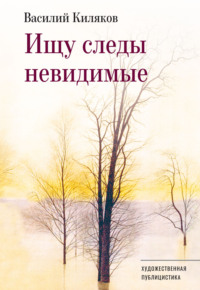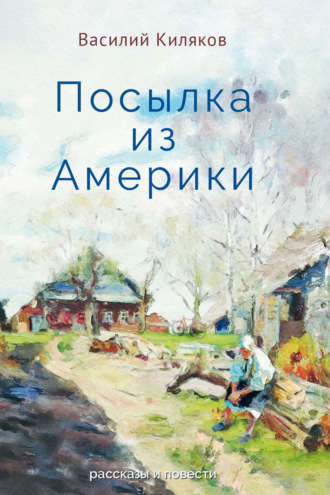
Полная версия
Посылка из Америки
– У него отец-мать есть, – оборвал дед бабку. – Пущай думают о сыне. Кто родил, тот и до ума доводи… Ну, будя реветь-то, изошел на слезы, а то на базар не возьму.
Владик вытер глаза рукавом рубахи, кинулся обнимать деда, расспрашивать про базар…
Бабка и Владик еще спали. Дед Терентий неслышно обулся, оделся, сходил на конный двор с одной-единственной кобылой на всю деревеньку, привел кобылу под уздцы, привязал к задку телеги, а в телегу положил большую охапку ароматного сена. Несло снегом – невидимой и колючей крупой. За ночь так подморозило, что земля звенела под сапогами с подковками. Когда Терентий вошел в избу, бабка уже ждала его с фонарем, а Владик – с коркой хлеба в руке. Овцы как бешеные кидались по углам замерзшего унавоженного хлева. И когда останавливались во тьме, глаза их волшебно отсвечивали. «Бя-ша, бя-ша…» – показывая хлеб, манил Владик. Дед крался с обрывками веревок, падал на барана. Баран грязно-белой шерсти сигал по сторонам. Наконец-то Владику удалось схватить барана за ногу. Они кубарем повалились на солому. Баран быстро-быстро лизал рукав мальчишки. Подоспел дед, упал на него и стал ловко связывать ноги Бяше. Фонарь в руке бабки светил барану в глаза. Выкатив сумасшедшие глаза, Бяша заблеял, теряя орешки навоза.
Дед взвалил связанного молодого барашка на плечи и потащил в огород к телеге. Жалко стало Владику барана, он бежал, поспевая за дедом, и совал корку хлеба: «Бяша, Бяша…»
Дед Терентий положил связанного барана на сено, привязал ноги к задку, запряг кобылу и выехал с огорода на улицу. Все еще спали в это воскресное утро, и в избах не было огней. Где-то в стороне скотного двора брехала собака, разбуженная телегой.
– Ну, с Богом, – говорила бабка Фрося, подавая на стол картошку и огурцы, нарезанные колесиками.
– Живо, живо! – твердил дед Терентий. – Живо, а то приедем к шапошному разбору… Живо!
– За внуком там гляди, не потеряй его, – наказывала бабка. – Вина – ни-ни… приедешь – налью, у меня есть… Царица небесная – матушка, спаси и сохрани… Ветер-то холодный, как зимой… Ну, дай пути-дороги… Гляди за ним…
Владик в валенках с калошами, в стареньком пальтишке с поднятым воротником, сидел в передке на сене, не переставая дергал веревочные вожжи. Телега с грохотом выкатила за деревню. На ухабах нещадно трясло. В глубоких колеях застыла вода в лед. Лед звенел под колесами как стекло.
Когда проезжали селом, взявшиеся откуда-то из темноты собаки налетели на телегу, брехали на лошадь. Владик испугался и начал отпугивать их кнутом.
– Дай-ка кнут, я вот этого рыжего смажу, – сказал дед, выхватил и достал рыжего кобеля.
Сумерки редели, и впереди светлел горизонт. Большаком, ведущим в город, часто встречались люди. Обгоняли баб с корзинками, мужиков с мешками. Светили фарами легковушки, грузовики, и все чаще толпился народ. Где-то совсем близко грохотали колеса поездов. Дорога полого поднималась, и, когда заехали на вершину взгорья, показались огни, дымящие трубы, а над ними зарево. Никогда еще Владик не заезжал в такую даль. Все было ново, интересно. Он глядел по сторонам, посвистывал, провожал долгим взглядом пестрые палатки с иностранными наклейками, а дед Терентий курил и кашлял. Справа пошел лесопарк кустами и перелесками с остатками листьев.
– Дед, а дед, – приставал Владик. – А тут волков не бывает?
– Нету, нету, какие тут волки…
– А разбойники?
– И разбойников нету. Ничего тут нету, одни кусты. Погоняй-ка, опаздываем. Одни вопросы в твоей голове. Ты вперед гляди…
У деревянного моста через реку скопились грузовики, легковушки, подводы, пешеходы. Гоготали гуси, блеяли овцы, а совсем рядом надрывно ревела корова, привязанная к задку телеги. Дед Терентий взял под уздцы кобылу, подвел к воде, развязал чересседельник и посвистал. Кобыла опустила морду к воде и начала жадно пить и фыркать.
Когда переехали мост, поднялись на гору, Владик увидел море огней. Черные клубы дыма из труб опускались на город. Запахло гарью. Гомонили люди, сигналили автомашины. Все смешалось в глазах Владика. Дед забрал вожжи и свернул на рыночную площадь.
Ободнялось. Изредка выглядывало солнце. Все гуще шел народ, и дед с трудом пробился к коновязи. Пахло сеном, навозом, угольной гарью. Стояли в ряд красивые кони, запряженные в бегунки, телеги с большими корзинами из прутьев, а в корзинах гуси, куры, утки… Продавали овец, круторогих и страшных баранов, коз с огромными гнутыми рогами и чудными, похожими на лыжи копытами; коровы ревели на весь базар.
К телеге деда подходили мужики и бабы, щупали шерсть, забивали ладони под ребра барана и спрашивали деда: «Сколько просишь?» Дед всем отвечал, а покупатели говорили, что он «ломит цену».
Из-за того что дед «ломил цену», простояли целый день. С базара уходили, уезжали, и у коновязи остались три подводы. Дед хмурился, закрывался от ветра воротником полушубка: «Видно, назад повезем барана».
Собрались уезжать. Подошли два мужика, один – молодой, другой – старый, – долго ходили вокруг телеги, забивали кулаки под ребра барану, называли цену… «Магарыч наш, – сказал старый мужик. – Надо вспрыснуть покупку…» И дед невесело начал развязывать Бяшу, а молодой мужик вытащил из сумки бутылку, озираясь, наливал вонючую водку. Бяшу привязали, поставили, дед Терентий разложил на тряпице все, что дала бабка Фрося. Владику захотелось есть. Он жевал хлеб с салом и с удивлением смотрел на чужих мужиков, купивших Бяшу, на их новые шапки и плохо понимал, что они говорят.
Выпив и закусив, мужики говорили и говорили. Из этого непонятного разговора Владик заключил, что покупатели пожалели деда. Глаза деда слезились, овчинная шапка съехала набок, и от него нехорошо несло водкой. Остатки хлеба Владик решил отдать Бяше. Но баран, приученный есть хлеб из рук Владика, кидался по сторонам, как будто знал, что его вот-вот уведут, и подавал голосок, как будто плакал. Владику стало жаль Бяшу, он тоже заплакал.
– Ты чего? – спросил дед. – Чего плачешь?
– Бяшу жалко… Не отдавай его…
Мужики засмеялись, а дед Терентий сказал: «У нас к весне еще будет барашек, лучше этого…» А когда мужики повели Бяшу на ошейнике за веревку, Владик провожал барана мокрыми от слез глазами.
– Ну, малый, сиди тут. За кобылой гляди, – сказал дед. – Я по палаткам пройдусь, гостинцев тебе куплю, товар погляжу.
Ряды совсем опустели. Кое-где еще продавали куртки, рубахи, валенки. Рядом стояла телега, в телеге гоготали гуси, высоко подняв головы с желтыми носами. Кобыла стояла не шевелясь, будто каменная. Владик подложил ей сена – она как бы и не замечала. «Ешь, дуреха, – говорил Владик, – ешь, а то скоро домой поедем…»
Базар совсем опустел, начало смеркаться. А дед все еще не приходил. Владик начал бегать кругом телеги, чтобы согреть ноги. Пробежал мимо соседних палаток – пропал дед.
…Через базарную площадь вели старика. Владик, близоруко щурясь (ветер нагонял слезы), не сразу узнал деда. Вели его под руки два молодых милиционера. На шее у деда моталась снизка баранок, дед что-то громко заплетающимся языком говорил, а милиционеры смеялись.
– Твой дед? – спросил высокий, тот, что был с резиновой палкой.
– Мой, – ответил Владик.
– Забери его и не отпускай. Домой вези.
Милиционеры помогли уложить деда в телегу. Владик собрал остатки сена, поднял, на сколько мог, чересседельник, кое-как завязал супонь и только тут он смекнул: забыл дорогу. Их оказалось три. Все в разные стороны.
Дед храпел на телеге. «Нажрался, идол окаянный! – совсем как бабка ругался Владик. – Могутов от тебя нету… Куда ехать, дед?!» – трепал он деда за воротник.
Связка баранок все еще висела на груди. Дед не просыпался. Владик развернул лошадь и остановился. В высоких городских домах зажигались редкие огни. Вот-вот станет совсем темно. Владик сидел на краю телеги и плакал навзрыд. Проходила мимо бабка с большой кошелкой за плечами, остановилась.
– Что плачешь, мальчик? – спросила она.
– Дорогу забыл, – всхлипывая, отвечал Владик.
– А куда ехать?
– В Березовку.
И Владик вдруг, почувствовав участие единственной души в этом большом чужом городе, расплакался еще громче, навзрыд, всхлипывая… Бабка начала будить деда, но так и не добудилась.
– Пусть спит. Проспится. Поедем, нам по пути, – сказала она, поставила кошелку в телегу, села рядом с Владиком. Когда ехали городской окраиной, Владик начал вспоминать дорогу, уже не всхлипывал, а все покрикивал на лошадь и махал кнутом.
Лошадь ходко шла домой. На мосту через реку не было пробок. За железным полотном вновь появились дороги, тропинки. «Тебе ехать все прямо и прямо к большаку, – объясняла бабка. – А потом свернешь влево, там спросишь… Ну, погоняй с богом…» – и пошла куда-то торной тропинкой.
Дед изредка просыпался, тяжело поднимал голову и мычал. Когда дорога стала спускаться, лошадь сама свернула влево к перелеску и побежала мимо кустарников к оврагу. Владик вспомнил село, стаю злых собак, вновь начал будить деда: «Да встань ты, окаянный, босяк! Встань, а то замерзнешь, помрешь!»
Дед встал, начал кашлять и плеваться. Владик поправил на нем шапку. «Дворики, Дворики, – говорил дед. – Считай приехали… Чтой-то со мной нехорошо, дурно…»
В Двориках вновь налетела стая собак. Еще злее чем утром, подкатывали они к телеге, пробегали ее с разгону, оглушительно лаяли. И тут дед совсем проснулся, он выхватил из рук Владика кнут и попробовал достать самого крупного. «Отрыжь!» – закричал дед. Лошадь рванула и вытащила телегу за Дворики.
Ехали молодым березовым лесом. Стало совсем темно, но не так страшно. Владик узнавал этот лес и лесополосу – «посадку», он ходил сюда с бабушкой за грибами. Дед запел: «На границе тучи ходят хмуро…» И вдруг оборвал песню, начал что-то искать в карманах. Возле скотного двора остановил лошадь, слез с телеги, снял шапку и начал высыпать в нее мелочь. На столбе светила единственная лампочка и не было ни души. В стороне брехала собака, и в сторожке был свет. Владик, прищуриваясь, смотрел на свет то одним, то другим глазом…
«Владик, ты у меня деньги не брал? – спросил вдруг дед, он вздыхал и охал и все шарил в карманах зипуна. – Чтой-то денег не могу найти, похоже, вытащили».
Все сено перерыл, облазил все карманы – нет денег.
– Головушка моя горькая, – взмолился дед, – видать, товарищи, с кем пил, погрели руки… А до телеги как я шел?
– Тебя два милиционера привели, – ответил Владик.
– Ой, ой, неуж привели?
– Да.
– Ну, попадет мне на орехи от бабки…
Бабка Фрося встречала с фонарем. Дед молча распряг кобылу и повел на скотный двор. Вернулся с былинками сена на шапке и зипуне. Снизка баранок лежала на столе. Владик пил чай, хрустел сушками.
– Садись, садись скорее, – говорила бабка Фрося. – И выпить дам…
Дед протрезвился. Никогда он не крестился на передний угол с иконой, а тут – стал на колени, помолился.
Дед выпил стакан самогонки. Молча как-то, не вдохнув. Стал ковырять в тарелке лист квашеной капусты.
– Ну, чего молчишь-то? – приставала бабка. – Выпил, а молчишь… Ай язык-то лошадь отжевала? Ай что случилось?.. Ой, чует сердце беду…
– Слава богу, что живой приехал, – сказал Владик. – Он помирал в телеге…
– Как с фронта, – норовил шутить дед. – Вот так базар, товарищи… Все денежки похерили…
– Неуж вытащили?! – вскрикнула бабка Фрося.
– Все, – отвечал дед. – Одна медь осталась…
– И-ик, и-ик! – заикала бабка, как будто проглотила кипяток или ложку огняной похлебки. – И-ик! Царица, матушка! – закрестилась она, полезла на скамейку зажигать лампадку на ржавых цепях. – Медяки остались… – И слезая с лавки, заплакала, заголосила:
– Босяк ты, босяк! Вытащили или пропил?!
– Пропил-то я, может, тышшу, не больше…
– Ты-ышшу! – повторила бабка, почему-то начиная раскачиваться на лавке из стороны в сторону. – Тышшу, эх ты…
– Вот так черт меня попутал! Продал барана, деньги получил, магарыч вспрыснули…
– Тышшу…
– Мало показалось, заело… Как бес попутал…
Бабка Фрося встала и, сразу вдруг обессилев, пересела ближе к деду. Владик почувствовал, как загорелись со страху лицо и уши. Захмелевший дед развязал язык.
– Пошел я купить гостинцев, товар поглядеть. А ларьки, палатки там какие наставили… Вина, я таких и бутылок не бредил, во сне не видал. А ларьки уже закрывались, а какие были открыты – одне тряпки бабьи.
– А-а-а, бабьи? – издевательским тоном перебила бабка. – А вино лучше…
– Да слухай, не перебивай… Повернул назад к телеге. Вижу, возле пивной и в проходе мужики – как мухи – кипят. Пить мне захотелось, аж кишки загорелись… От магарыча…
– Кишки у него, глянь-ка, загорелись, – злилась бабка.
– Дай досказать-то! – заругался дед. – Подхожу – народу – не пройти-пробиться. Все стойки облепили и на улице пьют. Из банок. Хотел было уходить, а тут два молодца: чего, мол, дед, пивка захотел? Или винца плодово-выгодного? Там и вино разливали из стеклянного конуса.
– А-а-а, из конуса, – передразнивала бабка. – Как хорошо…
Дед увлекся ладностью рассказа, говорил, размахивая руками:
– Молодая продавщица, слышу: «Товаришши, потише материтесь, то-ва-ри-шши, а то милицию позову…». Молодые мужики и говорят: давай, дед, деньги, мы пробьемся, отоваримся. Я отсчитал им двести. Глядь – несут. Трехлитровую банку, полную. Помню, пили вкруговую, захорошело…
– Захорошело ему, глянь-ка, – опять перебила бабка, уже теряя интерес к болтовне деда. – Ну, ну, и чево?
– Ну, ну, гну! Не перебивай. Стояли, пиво пили… Иди ты…
Дед помолчал:
– А тут товаришши и говорят: «Может, винца дернем? Плодово-выгодного?». Дал я им еще четыре сотни, мелкими. Вино – вонючка, а не вино. Пробились к стойке и за столом стали пить. Кружками. А закусь – рыбешка ржавая. Тут толкотня такая, аж бока заболели…
– Плакали денежки, – заключила бабка, тяжко поднимаясь с табуретки. – Сколько дали за барана? – громко спросила она.
– Шестьдесят без тысячи, – ответил дед.
– Шестьдесят! И ни копейки не привез… Годовая пенсия…
Тут загремели ухваты-рогачи. Бабка выскочила из кухни с самым большим и, держа ухват наперевес как винтовку, кинулась на деда. Владик вскочил с лавки, влепился в черенок, заорал дурным голосом:
– Он жив остался, не бей его!
Бабку Фросю остановил крик внука. Она как-то сразу обмякла, опустила ухват, ушла в кухню и запричитала:
Все ходил, вино пи-ил,В вонючей пивнушке…И приметили егоГородские обиралы,Ой да называют дру́гом,А обирают кру́гом…Вокруг него обошли,Обшарили кармашки,Обшаркали кармашки,Вынули бумажки,Оставили ляда́шки-и…Как доброго его собирала……От этого стона-причта и Владик заплакал. Подошел к бабке и начал уговаривать, обнимать и целовать, говоря: «Не плачь, бабка… Дед живой остался…»
Дед снял сапоги и, еле сдерживая стон от боли в запухших ревматических суставах, полез прямо в штанах и куртке на печку, бормоча себе под нос:
– Товаришши, товаришши… Нельзя так-то, товаришши…
Божья шишечка
Долго наблюдал, думал: как выразить благополучный тип чиновника в наше неблагополучное время. И вот недавно, переходя Тверскую с шумной ватагой нетрезвых друзей, вдруг увидел, вернее, почувствовал его. Итак, думаю, что, если бы он взялся писать свою историю, или, как теперь модно называть – «исповедь» и даже еще несуразней – «исповедь на заданную тему» (в одном названии – весь концентрат, квинтэссенция безбожия!), итак, если бы он писал и впрямь искренне, то написал бы примерно так…
«Я пишу единственно для того, чтобы разобраться в хаосе мыслей и чувств. Сказать – сгорит язык, смолчать – сгорит душа. Верите ли, я уже давно не живу, а проживаю жизнь. Говорят, чужая душа – потемки, но своя-то еще темней! Пусть сгорит мой язык, но душа, если она еще жива, – освободится от тех навязчивых предрассудков, которые мучают меня ежедневно.
Я конченый человек. Именно – конченый. Что бы я ни делал, где бы ни находился: на вокзале, в метро или ресторане, в «Холдинг-Центре», в Манеже или парикмахерской, – повсюду я терзаюсь странным и неловким чувством скуки, «никомуненужности». И это чувство мешает мне открыто смотреть в лица всем, и даже и вовсе незнакомым людям… И мне страшно. Страшно жить среди людей…
Мне повезло, я разбогател в годы «реформ» и «прихватизаций». Я хожу в модном пальто-размахае, до пят, свободного покроя, с узким воротником, в ботинках с каблучком назад – сверхмодных – в «Банк Столичный», к своему другу банкиру Тете Шуре в офис, что против памятника Пушкину, я хожу запросто. Меня пускают без очереди, как своего клиента, такой порядок.
Шура – милый, очень милый человек. Он давно имеет двойное гражданство и при всяком удобном случае уговаривает меня поступить так же. Пример заразителен, это верно. Но я терплю наперекор себе, хоть Шура время от времени делает страшные глаза и надувает щеки…
– Ты подумай, поду-умай хорошенько, – напоминает мне он, разглядывая мой «Магнум», привезенный из Германии на заказ за пятьдесят тысяч евро… Таки ты оглядись хорошенько. Времена уже не те… А сколько ты отдал за растаможку этой прелести? Еще столько же? Боже ж мой, – он разводит руками. – Вертикалка, инжектор! О, ты настоящий охотник. Я не могу так. Деньги готовы превратиться во что угодно, но только не в такую серьезную вещь, – говорит он с одесским акцентом.
Это правда. Я люблю красивые вещи. Но втайне – не люблю и охоты. Поверьте, это очень громко: охота, выстрелы. Это не для меня. Я просто вынужден туда ездить, мерзнуть на номерах, снимать целиком охотничий домик, привозить любовницу и кричать при всех на охранника… Это нужно, так делают все. Я вынужден смотреть, как мои нетрезвые друзья гоняют по сугробам на «ямахах», снимая это на видеоцифровик, вынужден спозаранку часами стоять и стоять «на нумере», то есть в том месте, куда поставит охотовед, зябнуть с занемевшими ногами и тосковать, тосковать по теплу и сигарете… вынужден. Там завязываются знакомства и поддерживаются дружбы среди состоявшихся.
Вот и Шура – терпеть не может охоты, а бывает. Вынужден бывать. И пить не с теми, с кем хочется. Поговорив и отведав вина из его коллекции, я выхожу на Тверскую… Но когда я прохожу назад мимо недвижимо стоящей очереди, я прячу лицо и физически чувствую на себе взгляды и ненависть, эти ужасные взгляды этих ужасных замерзших людей. У меня екает селезенка, и я вспоминаю испуганные глаза моего друга-банкира. «Поду-умайте…» – словно слышу его голос вслед.
«Плебеи, люмпены, пролетарии», – шепчу я мысленно, проходя, как фельдмаршал, вдоль шеренги ожидающих до своего «ниссана»… А все-таки тяжело.
…И коммерсантам я чужд. Нечто подобное, вероятно, испытывает человек, явившийся на именины в дом, где, кроме хозяина, никто его не знает. И кажется такому человеку, что он под постоянным наблюдением, что все присутствующие пристально изучают его, шепчутся за его спиной; с обостренным чувством замечает он все: каждый жест, каждую вольно отпущенную шутку – и все примеривает к себе, все принимает враждебно, во всем видит лишь подтверждение своему предубеждению против толпы… Так и я. Испытующе гляжу кругом, желая разувериться в предвзятом мнении, что якобы все смотрят на меня, и не могу! Я ловлю взгляды проходящих мимо, выпрямляю спину, весь перегибаюсь назад, стараюсь идти чинно и медленно, – и оттого даже и сам себе кажусь смешным. Но иначе не получается. И кажется мне, что во взглядах встречных я нахожу догадку и то, что с таким упорством прячу от себя, – вот-вот, кажется, закричит кто-то за моей спиной на всё казино: «Смотрите, смотрите! Вон идет карточный король! С одной стороны – король, а с другой – простая линованная рубаха!..» И раздастся смех… И тут я успокаиваю себя тем, что так развенчать – непросто. Так бывает только в сказках. Детских сказках гадких немецких сказочников, сочиняющих ради бедности и одиночества. От одиночества сочинен и «Голый король». «Новое платье короля»… – придумано немцем, от одиночества…
…Смех преследует меня повсюду. Кажется, что и сам смех – даже и смех во плоти. Кажется, что смеются именно надо мной, над чем бы при этом ни смеялись (и в самом деле). Встретив улыбку на губах прохожего, я уже внутренне негодую, сержусь на него, почти ненавижу… Хорошо, что с годами, после реформ и ваучеров, стали смеяться меньше, гораздо меньше. Стали бояться метро, мюзиклов, казино и игральных залов… Но смех и теперь продолжает казаться мне осязаемым, вещественным. Я даже различаю его по цвету: он – желтый. Почему именно желтый? Не знаю. Может быть, оттого, что людям свойственно смеяться чаще в солнечные дни? Так вот, услышав за спиной чей-то смех, я оборачиваюсь, вижу перед собой мокрые, растянутые в улыбке губы незнакомца и чувствую страх и острую тоску.
Я хмурю брови и долго еще оглядываюсь потом, как побитая палкой собака. Почему так, отчего? Думается, вот отчего: от недоверия. Я не верю никому и никогда, кажется, не верил. Ни народу, ни «представителям» этого народа в высших эшелонах, ни попрошайке-слепому или нищему. Ни этому правительству, ни даже своему внезапному богатству, ни газетам – этим гнусным листам, замешанным на блевотине с желчью, – не верю никому и ничему.
– …А вот и я не верю, – смеялся вместе со мной Шура (Тетя Шура – это кличка, «погоняло», которое он получил в тюрьме, отсидев еще при «той» власти), – не верю и я. Ни-ко-му.
И помолчав, добавил:
– И сам себе не верю!
– А почему – и себе? Не веришь? – не понял я одесского юмора.
– А так: однажды пукнуть хотел и… обмарался…
Видно, и я не один такой. И Шура не одинок. И еще: меня точит тяжкий недуг незнания. Я, в сущности, ничего не знаю. Помню несколько дат крупных событий из истории, несколько имен великих людей, писателей, композиторов, на которых мне, в сущности, наплевать, но всякий раз при случае я стараюсь козырнуть знанием этих имен, дат и фамилий. А если копнуть глубже, как же все-таки происходили те или иные события? И что за причина заставила Галилео Галилея орать над костром инквизиции, «что все-таки она вертится!», галилея который, не в пример смельчаку Джордано Бруно – все-таки отказался под угрозой смерти от своих убеждений… Но как осмыслить это геройство Джордано? Как, зачем? Зачем все это? И почему ему не сиделось спокойно за чашкой чая с абрикосовым вареньем, этого я даже и не то что не знаю, но и не могу даже найти хоть какие-нибудь версии, объясняющие это человеколюбие, или гордыню, или антропоцентризм эпохи гуманизма, или… а что еще? А Микеланджело, или тот же, с признаками детского паралича от рождения великий Леонардо с его «Моной Лизой», на лице которой я не вижу никакой загадочности, кроме ухмылки похотливой лисицы. Но меня смущает и это… Смущает.
– Нет, я решительно не понимаю… – говорю я экскурсоводу, в чем гениальность этой репродукции Леонардо да Винчи, – и кто это изображен, дочь соседа-мельника или блудница, есть ли по этому поводу хоть какие-нибудь бесспорные свидетельства?
Но вместо того, чтобы объяснить вразумительно, более или менее, экскурсовод ядовито шутит в ответ:
– Видите ли, господин, эта картина столько веков и стольким людям уже нравилась до самозабвения, что она теперь вправе сама выбирать, кому нравиться, а кому – нет…
По окончании премьеры спектакля, которых теперь пруд пруди по Москве и ежедневно – премьеры, кто-нибудь из моих знакомых говорит под занавес:
– Это было замечательно. Даже грубоватый реализм бутафора не повредил утонченности мысли, замыслу и… поэтике этого романтического произведения. А как вжились в образ актеры… Какая эстетика! Ведь еще Платон в своих «Федре» и «Пире»…
– Да бросьте вы, – отвечаю я, почти шокируя собеседника своим невежеством, – согласен, что поставлено неплохо. Но Платона в этом мало. А потом, что такое «эстетика»? У Ортега-и-Гассет это одно, у Баумгартена – нечто совсем другое. Да и сам термин можно понимать по-разному: эстетика как воплощение прекрасного или как нечто общее, как гармонию мелких деталей в общем и целом? Баумгартен, впервые произнесший «эстетика», вероятно, понимал под этим нечто свое… Но труд его на этот счет и об этом предмете так и остался незавершенным…
Такие ответы я всегда ношу за пазухой, подобно камням, чтобы побивать ими заносчивых. Много не надо, пять-шесть на случай – вполне хватает… И вот я покровительственно беру моего визави, моего ошарашенного моим интеллектом собеседника, под руку, заглядываю ему в глаза и вижу: кто такой Баумгартен, он не знает. И мне кажется, что никто ничего не знает.
Открою ли я современную научную книгу или детектив – плоды творчества этих новых и хваленых авторов-современников и вижу все одно и то же: слова, слова, слова… Мутная вода, порой и грязноватая, стекает со страниц – так может написать едва ли не каждый или каждый второй. Если это детектив, то это или подражатель от недавно скончавшегося западного «корифея» авантюрного романа Сидни Шелдона, или Чейз, или Хмелевская, только на русский лад. Или если это фантастика, то Уэллс, если фэнтези, то Стивен Кинг, но всегда – эпигонство, даровитая или бездарная реминисценция. И это типичная наша болезнь – тащить все с Запада, подражать Западу. И я думаю: «Скушно, господа, этак ведь и сдохнуть можно от скуки…»