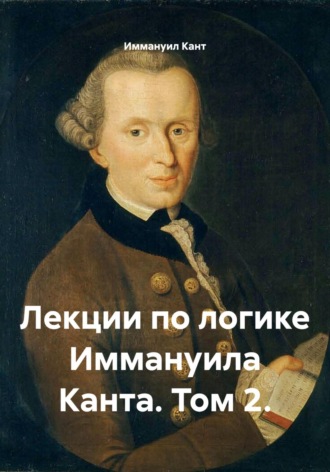
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
Классификация автора относительно объема ученого познания неудачна, так как он уже ранее говорил о широте ученого познания, а это то же самое. Познание может быть:
1. Экстенсивным – по количеству ученого знания.
2. Интенсивным – по важности, то есть по значимости познания с точки зрения последствий.
Логическая важность – это то, что способствует логическому совершенству познания. Практическое совершенство заключается в пользе, которую можно извлечь из знаний, и его нельзя предвосхитить. Однако познание может иметь относительную логическую достаточность, будучи в другом отношении логически несовершенным.
Содержание заключается в многообразии, связанном как части, составляющие целое. Плодотворность зависит от количества последствий. Различают также трудность и важность. Познание может быть трудным, но не важным, и наоборот. Трудность – не ценность познания, но и не возражение против его ценности. Важность основывается на величине последствий: чем больше последствий, тем больше важность.
Об истинности ученого познания.Теперь мы переходим к существенному условию совершенства познания, а именно к истине. Истина – это соответствие познания объекту, но это лишь объяснение значения слова. Истина – не единственное совершенство и не всегда главное. Конечно, совершенно ложное познание – ничто, так как через него я не познаю объект. Это неотъемлемое условие совершенства, но степень истинности не обязательно одинакова – она различается в зависимости от целей.
В логическом отношении истина – главное совершенство. Вопрос "что есть истина?" означает требование указать надежный, всеобщий и применимый критерий истины. Это важное требование, и оно кажется справедливым по отношению к логику.
Материальный критерий состоял бы в соответствии познания объекту, формальный – в соответствии познания самому себе.
Есть ли всеобщий материальный критерий истины или только формальный?
Ответ: это невозможно, потому что такой критерий должен был бы быть критерием истины независимо от всех объектов и абстрагироваться от всех их различий. Но вся истина состоит в том, что познание соответствует объекту, к которому оно относится. Ибо познание, истинное для одного объекта, может быть ложным для другого. Всеобщий признак не может заключаться в соответствии познания объекту, следовательно, всеобщий материальный критерий истины невозможен.
Логика не может его дать, так как она абстрагируется от всякого содержания и рассматривает только форму. Поэтому здесь могут быть найдены лишь формальные критерии истины.
Формальные критерии берутся из закона противоречия: то, что противоречит само себе, ложно. Из закона тождества как его следствия: если противоположное утверждение противоречит себе, то утверждение истинно, но это недостаточно. Если утверждение не противоречит себе, оно не всегда истинно. Если это последний критерий, то оно истинно, но это не всегда так.
Познание может называться возможным лишь постольку, поскольку оно не противоречит себе, поэтому в возможности тоже есть критерий истины, но далеко не достаточный, ибо я могу сказать лишь: познание возможно, но не объект.
Также основательность – критерий по закону достаточного основания. Возможные суждения – произвольные, не противоречащие себе, но и не более того. Это тоже недостаточно.
Это логические объективные формальные критерии истины. Мы должны через опыт знакомиться с объектами и соотносить с ними наше познание.
Помимо этих объективных критериев, у нас есть еще субъективный – согласие нашего суждения с суждением других людей. У юристов это очень распространено, в философии же смешно. Однако и от него нельзя полностью отказаться.
Формальные критерии логики – лишь conditio sine qua non, а именно связность и единство. Соответствие познания самому себе по всеобщим законам рассудка, содержащимся в логике, тоже формальный критерий.
Правила соответствия познания самому себе:
1. Оно не должно противоречить себе.
2. Если познание как основание связано с истинными следствиями, то это тоже критерий истины.
3. Между различными знаниями должно быть единство.
Противоположностью истины является ложь, и если последнюю принимают за истину, то это заблуждение. Таким образом, заблуждение содержит в себе ложь и видимость истины. Суждение, которое смешивает видимость истины с самой истиной, является ошибочным. Видимость – это основание для принятия ложных знаний за истинные. Основание видимости всегда лежит в субъекте. Когда основание принятия за истину, которое находится в субъекте, смешивается с тем, что в объекте, – возникает видимость. Каждый, кто опасается, что находится в заблуждении, должен проверить, нет ли у него субъективных оснований, которые он ошибочно принял за объективные.
Как возможно заблуждение формально? Или как возможна противоразумная форма мышления? Трудно понять, как сила может отступать от своих существенных законов. Следовательно, рассудок также не может отклоняться от своих существенных законов, и в этом смысле заблуждение было бы невозможно. Если бы у нас не было другого источника познания, кроме рассудка, мы никогда не ошибались бы. Однако заблуждение как суждение имеет место в рассудке. Но поскольку через рассудок мы не имели бы объекта, мы должны обладать еще другой способностью, которая дает нам материал для мышления, – и это чувственность. Она действует по другим законам. Чувственность и рассудок, однако, всегда взаимодействуют, что дает, так сказать, третье, диагональное направление.
Таким образом, мы заключаем: чувственность есть причина видимости и источник всех заблуждений, хотя и рассудок отчасти виноват, поскольку он недостаточно внимателен и осторожен. Из самой чувственности, однако, не возникают заблуждения, ибо чувства вовсе не судят.
Избавиться от заблуждения можно двояко: либо всегда правильно судить, либо вовсе не судить. Следовательно, заблуждение коренится не в рассудке или чувствах самих по себе, а во влиянии чувственности на рассудок, когда мы этого не замечаем. Логика не может говорить о чувственности более, чем считая ее субъективным основанием суждений, а рассудок – объективным.
Ошибочно полагать основание заблуждений в ограниченности рассудка: здесь лежит основание неведения, но не заблуждений. Ограниченность – это необходимо присущее нам неведение и недостаток познания, но не причина заблуждений. Природа отказала нам во многих знаниях, но она не вызывает заблуждений. Однако наша склонность судить и решать что-то там, где мы ограничены, ведет нас к заблуждениям.
Человек никогда не может заблуждаться полностью: в его познании всегда есть нечто истинное. Всякое заблуждение частично, ибо полное заблуждение было бы полным противоречием законам рассудка и разума, а потому оно вообще не могло бы исходить из рассудка, то есть не могло бы быть суждением – это совершенно невозможно.
Если речь идет о критерии истины, то он может состоять только в соответствии познания правилам рассудка вообще. Правила согласованности познания с самим собой суть:
1) закон противоречия и
2) закон достаточного основания, которые, однако, достаточны формально, но не материально.
Познание, противоречащее себе, ложно, но если оно не противоречит себе, оно не всегда истинно – это негативный критерий. Если познание связано с истинным основанием или имеет истинные следствия, оно истинно – это позитивный критерий. В логике у нас нет других.
Если противоположное суждению ложно, то суждение несомненно истинно. Из отсутствия противоречия не возникает единства, а потому я не могу заключить к истине: необходимо еще добавление связи основания и следствия.
О законе достаточного основания как критерии истины – из связи познаний как основания и следствия. Связь двояка:
a priori – связь как следствия с основаниями,
a posteriori – связь как основания со следствиями.
Познание связано a priori, если оно связано с основаниями, и a posteriori, если оно связано со следствиями.
Как можно от истинности следствия заключить к истинности познания как основания?
Отрицательно: если следствие ложно, то познание ложно. Среди ложных следствий иногда смешивают опасные, но то, что опасно, не всегда ложно.
Что вывод правилен, видно из того, что если бы основание было истинным, то и следствие должно было бы быть истинным. Принцип достаточного основания можно хорошо применять a posteriori и a priori. Если основание истинно, то и следствие истинно. Но я не могу заключить: поскольку следствие истинно, то и основание истинно. Однако если все следствия истинны, то и основание истинно, ибо в познании может быть нечто истинное, из чего вытекает именно это следствие. Но если все следствия истинны, то и познание должно быть истинным, ибо если бы в познании было нечто ложное, то должно было бы найтись и ложное следствие.
Здесь, таким образом, положительный вывод. В отрицательном выводе есть преимущество: достаточно вывести одно ложное следствие – и суждение ложно. Но в положительном выводе есть недостаток: на мне лежит бремя доказательства.
Восходящим образом я не могу строго заключить, ибо нельзя знать все следствия познания – это дает лишь вероятный вывод, что имеет место во всех наших гипотезах. Прямо я не могу из следствий заключить к истинности суждения, но косвенно могу из ложности следствия, выведенного из суждения, заключить к истинности противоположного суждения, ибо если то суждение ложно, то противоположное должно быть истинным.
Закон противоречия служит позитивным критерием для необходимости понятий.
Автор далее говорит о полной и частичной ложности. Познание может быть либо полностью, либо частично ложным, и иногда нам важно обратить внимание и на частичную истину, хотя частично ложное познание всегда ложно, но здесь могут быть степени. Например, тот, кто верит во многих богов, заблуждается, но тот, кто не верит ни в одного, заблуждается еще больше.
В заблуждениях всегда нужно раскрывать и объяснять видимость, из которой они возникли, но это делали очень немногие философы. Они опровергали заблуждения, но не показывали видимость, из-за чего источники заблуждений не устранялись, и в других случаях можно было снова заблуждаться.
В каждом ложном познании есть нечто истинное; иногда нет необходимости искать это истинное, но иногда это полезно.
Если познание относится ко всему объекту или если я познаю все, что есть в объекте, то познание полностью истинно. Если хотят различить полную и частичную истину, то нужно различать познание как познание и познание объекта. Если познание в первом случае частично истинно, то в нем точно есть нечто ложное. Во втором случае оно может быть истинным само по себе, только мы не познаем через него весь объект.
Познание терпимо истинно, если оно имеет частичную ложность, но не противоречащую цели. Во всех заблуждениях нужно обращать внимание на терпимо истинное.
Далее различают точное и грубое познание. Познание точно, когда оно соответствует своему объекту или когда в отношении его объекта нет ни малейшего заблуждения; оно грубо, когда в нем могут быть заблуждения, но не препятствующие цели.
Нужно различать широкое и строгое определение. Вначале иногда необходимо определять широко, особенно в исторических вопросах, но в разумном познании все должно быть строгим. Называть нечто грубое точным зависит от цели познания. Широкое определение всегда оставляет место для заблуждения, но у него есть определенные границы. Заблуждение особенно имеет место, когда широкое определение принимают за строгое.
От точного познания можно еще отличить тонкое. Точность – это объективное совершенство. Тонкость – субъективное совершенство. Познание тонко, когда оно требует высокой степени внимания и силы рассудка, чтобы быть воспринятым. Часто порицают тонкости и называют их бесполезными. В некоторых вещах тонкость крайне необходима. Но если цель можно было бы достичь с меньшим вниманием и усилием рассудка, то это называют бесполезной тонкостью. Тот, кто придерживается тонкостей, микроскопичен. Противоположностью бесполезной тонкости является грубость.
Познание грубо, поскольку оно еще имеет признаки обыденного рассудка.
Все наше познание исторично или рационально. Первое мы имеем, поскольку оно нам дано. Субъективно рациональные познания – это те, что почерпнуты из разума, как математические и философские; исторически объективные – те, что по своей природе не могут быть познаны a priori, а только через непосредственный опыт, сообщение и обучение.
Для некоторых разумное познание субъективно лишь исторично, но здесь мы рассматриваем его как объективно рациональное. Вся достоверность исторического познания эмпирична, а разумного – аподиктична. Аподиктическая достоверность – это принятие за истинное с сознанием необходимости, эмпирическая – принятие за истинное с сознанием случайности.
Аподиктические истины из понятий – догматы. Аподиктические истины из конструирования понятий – математические истины. Мораль очень богата догматами, как и теология, поскольку она есть мораль, примененная к Богу.
В математике есть аподиктические положения, но не догматы – они встречаются только в философии.
Аподиктические суждения – те, чья истинность выявляется из себя самой, то есть из внутренних оснований как достаточных.
Познания, основания истинности которых лежат в опыте или вообще в чувственности, эмпиричны.
Гипотезы – это такие суждения, которые принимают за истинные, чтобы объяснить из них достаточность некоторых следствий. Но здесь нужно быть осторожным, ибо из данного действия нельзя заключить к определенной причине. Например, в Англии у одного монетчика в сундуке нашли фальшивые монеты – его казнили, а после смерти выяснилось, что их подложил другой.
О системе.Автор определяет систему как совокупность догматических истин. Объект не создает различия между системами, поскольку всё должно быть систематизировано, чтобы быть истиной. В каждой системе должна быть идея, представляющая целое, которая определяет деление и цель, и именно эта идея составляет систематическое единство. Если её нет, то разнообразные элементы системы связаны рапсодически, но это ещё не означает хаотичности, поскольку хаотичность противоположна методичности. Нечто может быть методичным, но не систематичным, и признаком системы является то, что если в ней чего-то не хватает, эта недостача сразу заметна, поскольку у нас должно быть понятие о целом. Таким образом, система – это пробный камень полноты и правильности.
Истина – это познание в системе, а обычное познание – любое, не являющееся системой; оно может быть очень обширным, но всё же не наукой. Таким образом, можно говорить об исторической и рациональной науке. Многие считают, что систематичность относится лишь к изложению, а не к тому, что само познание должно возникать систематически. Изложение касается лишь способа передачи познания, но и происхождение познания во многих случаях уже систематично.
Афоризмы – это отдельные положения, не являющиеся частями системы.
Автор говорит об эстетических и учёных познаниях.
– Целое познаний как агрегат – это обычное познание.
– Целое познаний как система – это учёное познание, или если целое связано согласно принципу. Например, география может быть рапсодией или системой, но систематичной её делает глобус.
О ложном познании и заблуждении.Ложное познание и заблуждение также различаются, поскольку заблуждение – это принятие ложного познания за истинное. Таким образом, в заблуждении, помимо ложного познания, должен присутствовать ещё и видимость (иллюзия). Существует множество видов видимости, но мы можем говорить лишь о логической, которая возникает из соответствия познания с его формой: форма познания может быть правильной, но содержание ложным, и этот логический обман часто присутствует в нашем познании.
Об избежимом и неизбежимом заблуждении.
Ни одно заблуждение не является неизбежным само по себе. Однако невежество иногда неизбежно, поскольку оно зависит не от нашей воли, а от ограничений нашего разума. Тем не менее, бывают случаи, когда необходимо вынести суждение, и если мы ошибаемся, то заблуждение относительно неизбежно, но абсолютно – нет.
– Очевидная ложность – это та, которая ясна здравому смыслу.
– Если она не очевидна, то она скрыта и может быть раскрыта, и на этом основаны все опровержения.
Заблуждение, содержащее очевидную ложность, называют нелепостью, но для того, кто принимает его за истинное, оно неочевидно. Эта нелепость относится и к людям, поскольку она делает их недостойными находиться в классе людей, обладающих здравым смыслом.
Нельзя говорить, что ограничения нашего разума являются причиной заблуждения, потому что:
1. Разум, знающий свои границы, не пойдёт дальше, чем может.
2. Иначе мы приписываем Богу причину заблуждения.
Ограничения разума – это причины невежества, но не заблуждения.
В каждом заблуждении есть частичная истина, и даже у расстроенного человека суждение не полностью ложно, поскольку разум судит, то есть выражает, что он здесь или там согласуется с самим собой.
Тот, кто хочет освободить другого от заблуждения, должен:
1. Specimen evoluere – доказать ложность принятого за истину суждения.
2. Specimen exponere – объяснить видимость и показать, как она обманула судящего.
О ясности познания.Для ясности необходимы признаки. То, что может рассматриваться как часть целого возможного представления о вещи, является её признаком. Например:
– Красный цвет – это частичное представление целого возможного представления о розе.
– Вредность испарений розы – это частичное представление не реального целого представления, которое мы обычно о ней имеем (поскольку немногие в это верят), а возможного.
Признаки могут быть найдены:
– Через анализ, если они являются частичными представлениями реальных понятий.
– Через синтез, если они являются частичными представлениями возможных понятий, и здесь нет предела, поскольку какая вещь познана нами полностью?
Мы можем определить отчётливое понятие как такое, которое имеет ясные признаки или может быть разложено на признаки.
Признаки по связи делятся на:
1. Координированные – когда каждый представляется как непосредственный признак вещи.
2. Субкоординированные – когда один признак представляется через другой.
Первое называется связью агрегата, второе – связью ряда.
– Агрегация признаков составляет тотальность понятия.
– Через субкоординацию признаков я не узнаю о вещи ничего нового, но через агрегацию – да.
Субкоординация признаков имеет пределы (поскольку нужно дойти до простейшего, что уже нельзя объяснить), и ясность через субкоординированные признаки – это глубина отчётливости.
Пример:
– Тело – это целое, непроницаемое и протяжённое. Эти признаки координированы, и их ряд бесконечен.
Познание становится отчётливым двумя способами:
1. Через агрегат координированных признаков – ясность растёт экстенсивно.
2. Через ряд субкоординированных признаков – ясность растёт интенсивно.
Первое приятно, второе сухо, но глубина отчётливости, возникающая здесь, способствует основательности и достоверности нашего познания. Она относится к логическому совершенству, тогда как первая – к эстетическому.
– Экстенсивная ясность (распространённая) полезна в поэзии.
– Интенсивная ясность (глубокая) – дело философии, особенно в метафизике, где мы спрашиваем «почему?» о каждом «почему».
Признаки – это основания познания и делятся на:
1. Внутренние – для внутреннего употребления (объяснение объекта самого по себе).
2. Внешние – для внешнего употребления (сравнение объектов между собой).
Через признаки тождества мы создаём роды, через признаки различия – виды.
Признаки также делятся на:
– Положительные (что вещь есть).
– Отрицательные (что вещь не есть).
Отрицательные признаки важны, чтобы избежать ошибок, но положительные лежат в основе познания.
О важных и неважных признаках.
Важность познания относительна: то, что важно для одного, не важно для другого.
Признаки важны:
– Для внутреннего употребления – если они позволяют многое узнать о самой вещи.
– Для внешнего употребления – если они помогают сравнивать вещи.
Познание важно:
– Формально – если оно делает другое познание ясным.
– Материально – если оно ведёт к важным последствиям.
Признаки достаточны, если они полностью соответствуют цели.
Признаки бывают:
– Необходимые (неотделимые от понятия вещи).
– Случайные (не конститутивные).
Сущность (essentia) – это совокупность необходимых внутренне достаточных признаков.
Необходимые признаки делятся на:
1. Конститутивные (essentialia) – основания других признаков.
2. Атрибутивные (attributa) – следствия других признаков.
Внешние признаки (extraessentialia) бывают:
1. Модусы (внутренние определения).
2. Отношения (внешние связи).
Реальная сущность вещей – это их природа, которую мы не можем познать.
Логическая сущность – это совокупность всех признаков, составляющих наше понятие о вещи.
Таким образом, наши жалобы на ограниченность разума относятся лишь к невозможности познать реальную сущность, но логическую сущность мы познаём легко, разлагая понятия на их признаки.
Автор говорит теперь о ясных и темных познаниях. Этот материал не относится сюда, поскольку логика не может дать нам правил о представлениях, которых мы вообще не осознаем. Логика учит не делать познания ясными, а отчетливыми, но мы должны осознавать свое познание, т.е. оно должно быть ясным. Темным называют понятие, которое недостаточно ясно для нашей цели. Таким образом, существует логическая темнота, которая, однако, сильно отличается от психологической. Сравнительная темнота – вот чем занимается логика. Относительно темным нужно становиться всегда, когда хочешь подняться к необычной ясности. Темным называют также то, что не понимает обычный рассудок, но понимает спекулятивный. Особенно примечательно, что рассудок часто работает в темноте; что это так, мы видим из неуместного выражения: «Я чувствую, что это или то истинно», но не могу указать никакого основания. Рассудок не осознает своего размышления, но осознает его результат – что что-то истинно или ложно. Последнее называют сомнением: человек осознает сомнение относительно чего-то, но не может указать основания; если же он может указать основание, то это называют возражением. Вся истина и ложность лежат в суждении, следовательно, они не могут быть почувствованы, поэтому выражение совершенно неверно. Нужно стараться узнать, какие размышления сделал рассудок в темноте, благодаря которым он пришел к тому, чтобы что-то принять или отвергнуть. Для этого требуется руководство, а именно: я возвращаюсь к ближайшему известному и смотрю, не связано ли это с тем, что мне неизвестно. Это действие называют эволюцией, и оно часто бывает очень трудным как для нас, так и для других.
Автор также говорит о подробности. Деление относится не к ясности, а к отчетливости. Вся отчетливость состоит в ясности признаков. Когда все признаки достигли ясности, то мое отчетливое понятие о вещи адекватно. Отчетливость через координацию признаков иного рода, чем через субординацию признаков. Адекватность может основываться на координации признаков, и тогда это completudo, или на субординации признаков, и тогда это profunditaet. Как интенсивная, так и экстенсивная отчетливость относятся к логике.
О полной и частичной ясности.In cognitione quadam notae singulae possunt esse obscurae, universae, clarae. Это случай неотчетливого представления. Например, если смешать синий и желтый, получится зеленый. В целом мы осознаем зеленое, но не части, из которых оно состоит. Например, когда используют слово «право», всегда есть ясное понятие, но что оно в себя включает, знают немногие. Таким образом, у нас есть множество представлений, которые ясны нам в целом, но не в своих частях. Однако философия должна продвигать ясность как можно дальше. Если мы произвольно составляем понятие, то оно ясно и в своих частях, ибо мы знаем части, из которых оно составлено.
О живости.Логически большая ясность – это отчетливость, эстетически большая ясность – живость. Может быть живость простого впечатления или идеи, которая состоит в множестве признаков, составляющих представление; ибо каждый признак вызывает в нас движение. Некоторые представления связаны с интересом души, т.е. они облегчают свободную игру душевных сил. Мы упрекаем автора в сухости, если он не приспосабливается к вкусу, в сонливости, если он не предлагает ничего, что возбуждало бы наше внимание. Сухим называют и того, кто излагает свое познание лишь в логических понятиях. Таким образом, живость совершенно отлична от логического совершенства и относится к эстетике; она как бы средство (vehiculum) логики, служит для ее введения, но должна применяться с осторожностью, чтобы не помешать эффекту логического намерения. Итак, живость бывает экстенсивной и интенсивной. Интенсивная степень называется силой и волнением, экстенсивная служит тому, чтобы придать нашему понятию больше наглядности или сделать его ясным in concreto, поэтому она очень важна. Величина интенсивной живости основывается лишь на чувстве, но через это мы не познаем предмет лучше, а находимся в самом неподходящем состоянии для познания и суждения вещей. К живости, основанной на наглядности, относятся проницательность, ученость и основательность. Экстенсивную живость может проявить и обычный ум.









