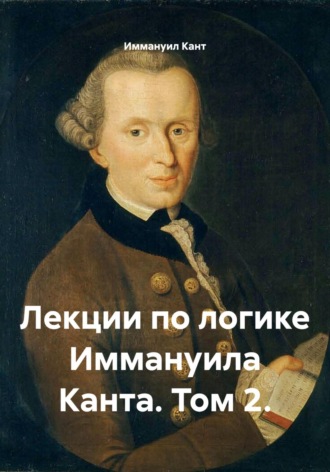
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
Поскольку мы сказали, что логика делает понятия отчетливыми, возникает вопрос: каким образом она делает их отчетливыми? Наш автор и Вольф всегда рассматривают прояснение как аналитическое, т.е. они полагают, что оно возникает лишь через расчленение понятия. Оно действительно возникает так в отношении признаков, которые мы уже мыслили в понятии, но в отношении признаков, которые добавляются к понятию как части всего возможного понятия, оно возникает через синтез. Через аналитическое прояснение наше познание не расширяется, а мы лишь лучше различаем то, что уже содержалось в нашем познании. Например, если я говорю: «Тело есть протяженная, непроницаемая вещь, имеющая фигуру», я ничего не добавил к понятию тела, а лишь расчленил то, что уже в нем было. Логика занимается формой отчетливости так, что содержание остается тем же, и познание по содержанию не растет. Аналитический метод создания отчетливости – первый и главнейший, и именно он является логическим.
Иногда необходимо и расширить свое понятие, и тогда отчетливость возрастает, причем синтетически. Например: «Добродетель есть гармония произвола с разумом» – это всегда мыслится в понятии добродетели; если я добавлю, что она приносит выгоды, то, хотя это лишь случайное свойство, я сделал свое понятие синтетически отчетливым.
Есть различие, которое стоит отметить, между положениями: «Сделать отчетливое понятие» (отсюда возникает синтетическая отчетливость) и «Сделать понятие отчетливым» (отсюда возникает аналитическая отчетливость). В первом случае признаков еще нет, я начинаю с частей и иду к целому, и здесь мое познание расширяется по содержанию; во втором случае оно не растет по содержанию, а лишь изменяется форма.
Некоторые хотят утверждать, что прояснение вредит энергии, но это ложно, ибо чем отчетливее я что-то понимаю, тем сильнее и живее оно становится, только анализ не должен заходить так далеко, чтобы предмет в конце концов исчез.
Математик действует синтетически, философ – аналитически. К синтезу относится прояснение объектов, к анализу – прояснение понятий. Здесь целое предшествует частям, там части – целому. Иногда действуют синтетически, даже если понятие дано, когда не удовлетворены признаками – это часто бывает в эмпирических положениях.
Синтез и анализ.Аналитические суждения являются поясняющими, а синтетические – расширяющими. Все аналитические суждения априорны, а все суждения опыта синтетичны.
Синтетические суждения бывают либо априорными, либо апостериорными. В арифметике и геометрии почти все понятия синтетические априори, то есть мои познания здесь могут расширяться независимо от всякого опыта.
Автор сейчас говорит о понимании и называет его concipere, что буквально означает познавать что-то через понятия, то есть через рассудок, ибо в противном случае мы не найдем немецкого слова для comprehendere. Впрочем, это не так важно.
Мы возьмем степени, по которым наше познание объекта может возрастать.
1. Первая степень – представлять себе что-то (sich etwas vorstellen).
2. Вторая – воспринимать или представлять с сознанием (percipere).
3. Третья – познавать что-то (cognoscere).
4. Четвертая – понимать что-то (intelligere), познавать что-то через рассудок посредством понятий; это можно также назвать concipere, и оно сильно отличается от begreifen (постигать). Я могу concipiren (мысленно представить) что угодно, например, perpetuum mobile, хотя в механике доказана его невозможность.
5. Пятая – познавать что-то через разум (perspicere), когда я понимаю основание чего-то. Во многих вещах мы доходим до понимания, но не до усмотрения. Наши познания становятся все меньше по числу, чем больше мы хотим их усовершенствовать.
6. Шестая степень – comprehendere (постигать), познавать что-то через разум в такой степени, чтобы этого было достаточно для нашей цели. Если познают что-то в такой степени, что этого достаточно для всякой цели, то это называется постигать абсолютно, и это превосходит человеческие способности.
Когда учатся чему-то, необходимо постигать то, что относится к цели, иначе это бесполезно и всякое применение отпадает.
Синтетически ясное понятие, где ни одно не содержится в другом и ни одно не отсутствует, можно назвать определением.
Примечание. У нас есть употребление разума, которое кажется достаточным для постижения чего-то, когда вещь налицо, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что мы не усмотрели бы этого априори, и это часто случается у естествоиспытателей.
Таким образом, я постигаю то, что мог бы определить априори. То, что я не могу определить априори, я и не постигаю, хотя могу объяснить.
О полной и частичной ясности.Полнота экстенсивной ясности основывается на множестве координированных признаков, а интенсивной ясности – на множестве субординированных признаков.
О полных и адекватных понятиях.
Понятие ясно, если его признаки отчетливы. Ясное понятие, содержащее все признаки, исчерпывающие все понятие, является полным понятием, и это совершенство называется completudo.
Если в ясном понятии не отсутствует ни один признак, возможна ошибка в том, что один признак лишний. Совершенство, поскольку понятие не имеет лишних признаков, называется precision.
Cognitio simul completa et precisa est adaequata (Познание одновременно полное и точное является адекватным).
Вольф и его последователи определяют его как понятие, признаки которого ясны. Это, конечно, высокая степень ясности, но не твердо определенная, а лишь колеблющаяся, ибо я могу представлять себе признаки признаков и так далее. Но этим понятие не устанавливается твердо.
Правильное определение: cognitio adaequata objectum si habet omnes notas quae conceptum exhauriunt sed non abundantes (Познание адекватно объекту, если оно имеет все признаки, исчерпывающие понятие, но не избыточные).
Благодаря точности можно удостовериться, что нет ни лишних, ни недостающих признаков. Их недостаток основывается на тавтологии, когда один и тот же признак выражается дважды, но в другой форме. Например, если я говорю: «Бог бесконечен, всемогущ и т. д.», то всемогущество уже содержится в понятии бесконечности.
Бывают случаи, когда точность вызывает некоторую темноту, но для глубокого ума она тем ценнее, ибо точные понятия всегда соответствуют вещи, а у искусных людей их отсутствие – большой недостаток.
В конце этого раздела автор говорит о понятиях ясного ума, и эту тему, хотя она и не относится к логике, мы тоже рассмотрим.
Под ясностью понимается соединение популярной ясности со школьной. Чем больше точности в понятии, тем более оно соответствует школе. Логическую ясность можно назвать школьной, а эстетическую – популярной.
Популярная ясность состоит в соединении абстрактных представлений с конкретными, и для этого требуется большое дарование. Многие авторы очень популярны, но при этом упускают школьную строгость, и на них нельзя положиться.
Самый ясный ум – тот, который, обладая логическим совершенством, одновременно настолько ясен, что может быть понят даже самым обычным рассудком.
О достоверности познания.Есть три степени признания чего-то истинным:
1. Проблематическое – когда я считаю свое познание лишь возможным (это называется мнение).
2. Ассерторическое – когда я рассматриваю свое познание не как возможное, а как действительно истинное (это называется вера).
3. Аподиктическое – когда оно связано с понятием необходимости, так что я объявляю его неопровержимо истинным (это называется знание).
Первая степень – мнение.
Мнение – это объективное признание истинным, сопровождаемое сознанием его недостаточности. С мнений мы начинаем большую часть наших познаний. Иногда у нас есть смутное предчувствие, когда мы сами не знаем, что именно думаем, хотя дело кажется имеющим признак истины.
Мнение – это предварительное суждение, и мы не можем легко от него отказаться, но надо остерегаться считать мнения чем-то большим, чем мнения. Это относится и к гипотезам, или философским мнениям.
Во многих науках мнение недопустимо, например, в метафизике, математике, морали и т. д. В физике много мнений, особенно относительно причин и событий.
Из нашего определения следует, что мнение – это также субъективно недостаточное признание истинным, ибо мы сознаем, что оно объективно недостаточно.
Вторая степень – вера.
Вера – это признание истинным, субъективно достаточное, но объективно недостаточное. Вера может быть теоретической и практической. Первая основывается на свидетельстве других (историческая вера), вторая – на интересе, но также на разуме (моральная вера).
Примечание. В математике можно верить тому, что сказал великий человек, но в философии – нет, ибо там нет таких средств, чтобы распознать ошибку.
Третья степень – знание.
Вере противопоставляется знание. Можно иметь очень разумную веру, но нельзя сказать, что знаешь. Ибо знание – это объективно достаточное признание истинным; тогда я познаю что-то из логических оснований.
Иногда я познаю что-то из практических оснований, твердо верю, но еще не знаю. Так обстоит дело, например, со многими религиозными истинами.
Убеждение и уверенность.
Убеждение (Ueberredung) – это субъективная сторона признания истинным, поскольку в ней не содержится объективного основания. Таким образом, убежденность – это сознание субъективного основания; при убеждении, следовательно, нет логических оснований, то есть таких, которые были бы действительны для каждого.
Уверенность (Ueberzeugung) – это состояние субъекта, в котором он не может считать противоположное истинным. Здесь имеет место субъективно необходимое признание истинным, следовательно, оно должно иметь основание и в объекте.
Всякая уверенность, или полное признание истинным, бывает двояким:
1. Она либо может быть сообщена – тогда она логическая;
2. Либо нет – тогда она основывается либо на чисто субъективных основаниях (тогда это убеждение и оно эстетическое), либо на объективных и субъективных практических основаниях, то есть таких, которые определяют волю (и это практическая вера).
В чем разница между логической и практической достаточной уверенностью?
Если мы свободны от всякого интереса, и у нас есть уверенность, то она логическая – независимо от того, освободились ли мы от интереса или его вообще не было. Эту уверенность называют также спекулятивной.
Но если у нас есть интерес, то уверенность практическая, то есть она достаточна, чтобы определить нас к чему-то, но мы не можем сообщить ее другому, ибо интерес – это нечто субъективное, и мы не можем привить другим интерес к тому, что нас интересует.
Предубеждение.Быть предубежденным (praeoccupirt) – значит иметь субъективное основание в своем суждении, которое определяет его одобрение еще до исследования объективных оснований.
Предубеждения очень обычны для человека. Учения юности всегда предубеждают нас, и нам трудно от них освободиться. Мы также предубеждены гневом, ненавистью, враждой, предпочтением и т. д., которые сильно на нас влияют.
В признании истинным труднее всего увидеть, от чего оно происходит – от чувственного влияния или от рассудка, и часто мы сами через чувство отличаем убеждение от уверенности.
При мнении мы не считаем познание даже субъективно достаточным, а при вере – считаем.
Практическая вера часто тверже всякого знания. В последнем еще ищут противоположные основания, но в практической вере – нет. Например, вера в Бога и иной мир тверже всякого знания, ибо мы имеем в этом столь большой интерес.
Практическая уверенность – величайшая из возможных, и лишь некоторые положения способны на нее – те, которые называются морально достоверными, то есть те, что являются основанием всей моральности и согласуются с нашей совестью, если мы им следуем.
Таким образом, практическая вера – это твердая, неизменная уверенность, и именно потому, что никакой противник не может опровергнуть морально достоверное положение, хотя и могут делаться возражения.
Чувственная достоверность.Чувственную достоверность можно разделить на достоверность чувств и достоверность опыта (эмпирическую достоверность).
Одни чувства не составляют опыта, но суждение рассудка о связи чувственных представлений. Чувства и рассудок – источники нашего познания.
Через чувства мы имеем явления, а рассудок связывает их, и отношение между ними, или их единство, есть опыт. Таким образом, опыт – это познанная связь явлений.
Всякий опыт, следовательно, содержит суждения, исходящие из рассудка.
Логики занимались вопросом о достоверности чувств. Здесь вопрос не в том, есть ли в объекте, который они нам представляют, нечто истинное, а в том, имеют ли они объекты или обманывают нас видимостью, которой не соответствует никакой объект.
Этот вопрос не относится к логике, ибо она не занимается объектами, а к метафизике, где речь идет о видимости.
Но из логики мы уже можем усмотреть, что в чувствах нет ни лжи, ни истины, ибо они вовсе не судят.
Здесь скорее возникает вопрос о достоверности.
Эмпирическое познание – это познание через рассудок объектов, представляемых чувственностью. Вся эмпирическая достоверность относится, таким образом, к отношению чувственных представлений, и на этом мы должны остановиться.
Чувственное познание отличается от рационального, когда его объект – объект разума, как мораль; она, следовательно, материально рациональна.
Но одна лишь логика материально и формально рациональна, поскольку она имеет рассудок своим объектом.
Наши познания могут касаться объектов опыта, и достоверность может быть при этом эмпирической и рациональной.
(Эмпирическая достоверность бывает либо оригинарной, если я что-то знаю из собственного опыта, либо деривативной, если из чужого опыта.)
Разум привносит во всякую достоверность необходимость, чего не может опыт. Например, опыт учит, что вещь полезна, но только разум учит, что она необходимо должна быть полезной.
Мы не можем иметь рациональной достоверности обо всем, но где можем, должны предпочитать ее эмпирической.
Однако не следует смешивать рациональную достоверность с эмпирической.
Рационально достоверным является то, что мы усмотрели бы априори и без опыта.
Рациональная достоверность, в свою очередь, двояка:
1. Поскольку наши познания либо дискурсивны (из понятий),
2. Либо интуитивны (из конструирования понятий),
достоверность также бывает дискурсивной и интуитивной.
Интуитивное познание математично, дискурсивное – философско. Эмпирическая достоверность ассерторична, рациональная – аподиктична, т.е. достоверность познания, связанная с сознанием необходимости. Математическая достоверность называется ещё очевидной, потому что объект представлен в наглядности. Интуитивное познание яснее, чем дискурсивное. По достоверности они равны, но не одинаково ясны, т.е. способ их достоверности различен.
Автор далее говорит о модусах принятия за истинное (modis des Fürwahrhaltens). Модус – это различие в том, как я что-то принимаю за истинное. Модусы следующие:
1) Предположение – когда нечто получает одобрение, но неизвестно, достоверно ли оно.
2) Установленное – когда нечто принято и его истинность известна.
3) Неопровержимое – когда невозможно считать его ложным.
Это три степени одобрения. Если что-то установлено, то предполагается, что оно истинно и объективно, и субъективно. Не вызывающие сомнения положения не называют установленными, если против них никогда не было возражений, например, теорема Пифагора.
Познание может быть основательным разными способами. Например, основательное моральное рассуждение отличается от математического. Основательность означает не логическую полноту достоверности, а то, что познание обладает совершенством, соответствующим его природе и цели. Некоторые познания поверхностны (их называют superficielle), хотя эти термины различаются. Первое указывает на недостаток глубины познания. То, что сразу предлагается обыденному рассудку, часто вполне соответствует цели. Но если познание должно выходить за пределы целесообразного совершенства для обыденного рассудка, а берётся лишь то, что ему сразу понятно, то оно поверхностно.
Автор говорит теперь об одобрении и воздержании от суждения. Выражения «я одобряю», «я отвергаю», «я воздерживаюсь от одобрения» показывают, что в нашем суждении есть нечто произвольное: мы считаем что-то истинным, потому что хотим этого. Вопрос в том, влияет ли воля на наше суждение.
Непосредственно воля не влияет на разум (например, математические истины остаются истинами, даже если нам неприятны). Но она влияет на использование разума – побуждает или удерживает от исследования истины, хотя не влияет на само убеждение. Однако поскольку убеждение зависит от использования разума, воля косвенно влияет и на него. Если бы воля могла убеждать нас в том, чего мы желаем, мы бы постоянно создавали себе химеры счастливого состояния и считали их истинными. Но она не может спорить с убедительными доказательствами вещей, которые нам неприятны – они остаются правыми.
О воздержании от суждения (De suspensione judicii).Если мы иногда находим ошибки в своём познании, то можем случайно, сравнивая с другими познаниями, усомниться в своём суждении, что приводит к suspensio judicii – решению не позволять предварительному суждению становиться окончательным.
Я сужу окончательно, если прямо утверждаю: «это истинно»; или проблематично, если говорю: «у меня есть основания считать это истинным, но их пока недостаточно». Осознание, что моё суждение проблематично, и есть suspensio judicii.
Воздержание может быть двояким:
1) Исследующим (suspensio judicii indagatoria) – чтобы найти основания для окончательного суждения.
2) Отказом от суждения (renunciatio judicii) – когда суждение вообще не выносится.
Первое называется критическим, второе – скептическим воздержанием.
Можно также требовать и предписывать одобрение: если другой увидел мои основания, он не может отвергнуть их, не впадая в нелепость (например, математик). Философу не так повезло: его положения аподиктически достоверны, но не очевидны. В философских познаниях можно давать одобрение лишь условно – сохранится ли всё в таком виде в дальнейшем? Часто положение кажется верным, но при применении (при выводе следствий) возникают трудности. Нужно всегда исследовать, как познание ведёт себя в целом, что требует завершённости и обзора всей системы.
Воздерживаться от одобрения по максиме может лишь натренированная способность суждения, которая появляется с возрастом. Наш разум жаждет расширяться и обогащаться суждениями, поэтому мы склонны считать истинным то, что имеет видимость истины. У живых умов эту склонность трудно устранить, но если человек научился на ошибках, он становится осторожнее и не спешит с одобрением, если потом приходится его отменять.
Оставить что-то в сомнении (in dubio) – не то же самое, что suspensio judicii, потому что здесь есть интерес, тогда как в воздержании не всегда важно решить, истинно ли что-то.
Виды суждений.Суждения делятся на:
– Предварительные (judicia praevia, antecedentia) – те, что предшествуют исследованию.
– Окончательные (determinantia, consequentia) – те, что следуют за исследованием.
Предварительные суждения очень нужны в науках. Например, можно сказать, что логика обогащается их рассмотрением, если только это не слишком для неё глубоко (ведь здесь объекты должны быть даны заранее).
Человек судит сразу, даже при малых данных, как бы пробуя, будет ли его суждение верным. Это сильно влияет на него: даже окончательное суждение со всеми основаниями не всегда может изменить первоначальное мнение. Например, большинство судят о книгах по заглавиям. Если автор известен, доверие к книге выше; если тема нова, есть больше оснований для благоприятного суждения. Такие суждения полезны при размышлении, при составлении плана, хотя потом многое может отпасть.
Поскольку эти суждения направляют разум, они необходимы. Окончательные суждения – те, что дают достаточное основание для одобрения.
Предварительные суждения следует отличать от предрассудков. Они могут служить максимой для исследования. Их можно назвать антиципациями (anticipationes), поскольку суждение выносится заранее, до окончательного решения. Это принятие за истинное при недостаточных основаниях, которые должны побуждать искать достаточные. Их также называют философией обыденного рассудка, потому что он способен только на них, не углубляясь в исследования.
О предрассудках.Замечание: есть разница между исследованием и размышлением. Многие положения принимаются без исследования (например, что целое равно сумме частей), но обдумать их нужно – я должен осознавать, что именно я мыслю.
Размышление – это сопоставление познания с познавательной способностью, из которой оно должно происходить. Например, если кто-то говорит: «между двумя точками возможна только одна прямая», в моём уме происходит операция сравнения этого с наглядностью (т.е. с познавательной способностью), как бы мысленная проверка. Это происходит всегда, даже если мы не исследуем познание.
Если познание происходит из познавательной способности, недействительной в отношении объекта, то его нужно либо отвергнуть, либо воздержаться от суждения. Нужно различать, какая познавательная способность здесь влияет, даже если исследования нет.
Мы принимаем суждения и без размышления – и тогда это предрассудки.
Что такое предрассудки?
Предрассудки можно понимать в субъективном или объективном смысле.
– Предрассудок в субъективном смысле – это склонность к убеждению (Ueberredung), т.е. принятие за истинное по чисто субъективным причинам, ошибочно принимаемым за объективные. Он возникает из подражания, привычки или склонности.
– Предрассудок в объективном смысле – это видимость, поскольку она принимается за принцип истины.
Предрассудки – это предварительные суждения, поскольку они принимаются за принципы. Необходимо различать сам предрассудок и ложное познание, которое из него проистекает. Познание, которое определено в отношении отдельных объектов, не является предрассудком. Иногда они бывают истинными предварительными суждениями, например: "Что посеешь, то и пожнешь", но это ошибочно, когда их принимают за принципы, и происходит это потому, что субъективные основания ошибочно принимаются за объективные, а это случается из-за того, что мы не задумывались.
Каждый предрассудок – это принцип ошибочных суждений. Из предрассудков проистекают не предрассудки, а ложные суждения, и они всегда являются их источниками. Например: "Яблоко от яблони недалеко падает" – это можно считать предрассудком, потому что это не всеобщее положение и не может служить принципом. В случае ошибочных суждений всегда нужно обращать внимание на предрассудок, из которого они возникли.
Три источника предрассудков:
1. Подражание
2. Привычка
3. Склонность
1. Подражание.
Оно имеет всеобщее влияние. Разум стремится расширяться и делает это через подражание, особенно у детей и простых людей. Это сильное основание считать истинным то, что другие выдают за таковое.
2. Привычка.
Привычка – это легкость в выполнении чего-либо, и это хорошо, но привыкание (закрепившаяся привычка) – нет, это необходимость делать что-то так, как делали раньше. Привычка действует сильнее на стариков, чем на молодых, потому что последние еще не прожили достаточно, чтобы что-то стало для них привычным. Если познание стало привычкой и к тому же возникло из подражания, то такой человек совершенно неизлечим. Предрассудки привычки могут быть искоренены только со временем, когда разум постепенно задерживается и замедляется противоположными доводами.
В случае предрассудка подражания можно различать активное и пассивное использование нашего разума, потому что предрассудок из подражания – это не что иное, как склонность к пассивному использованию разума. Я действую активно, когда вывожу что-то из естественных правил разума. Первое (пассивное) – это противоречие в определении, и тем не менее оно очень распространено среди людей.
Разум – это деятельное начало, которое ничего не может заимствовать у другого, даже у опыта, если мы хотим пользоваться чистым разумом. Но из-за лени люди предпочитают ступать по чужим следам, чем напрягать свои собственные силы. Например, уверенность в будущей жизни – это объективно разумное положение, но для большинства это лишь историческое знание.
Средства, способствующие подражанию:
1. Формулы, правила, выражения которых служат образцом для подражания. Формулы – это облегчение, когда что-то запутано, и даже самый просвещенный ум стремится их изобрести.
2. Изречения (dicta) – выражения, обладающие точностью смысла. Dicta – это высказывания, служащие правилом или законом. Они всегда заимствуются у других, и мы приписываем им некую непогрешимость, потому что принимаем их на веру.









