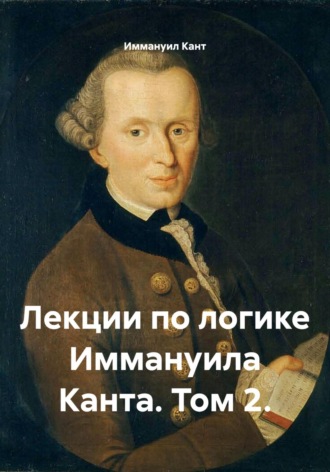
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
21. Logik Vollmer (1790-е) представляет собой одну из последних студенческих записей лекций Канта по логике, сделанную Карлом Фридрихом Фолльмером в период 1790-1793 годов, когда кантовская философская система достигла своей завершенной формы. Эти заметки отличаются особой четкостью изложения и методической строгостью, отражая педагогический опыт позднего Канта: "Die Logik ist eine Wissenschaft a priori von den notwendigen Gesetzen des Denkens, nicht wie es ist, sondern wie es sein soll" ("Логика есть априорная наука о необходимых законах мышления, не о том, как оно есть, а о том, каким оно должно быть") (AA 24, S. 1332). Особую ценность представляет анализ связи между логикой и трансцендентальной философией: "Die allgemeine Logik abstrahiert von allem Inhalt der Erkenntnis, die transzendentale aber betrachtet die Gesetze des Verstandes und der Vernunft, sofern sie a priori auf Gegenstände gehen" ("Общая логика абстрагируется от всякого содержания познания, трансцендентальная же рассматривает законы рассудка и разума, поскольку они априори относятся к предметам") (AA 24, S. 1340). В разделе о методе научного познания подчеркивается: "Der wahre philosophische Methode besteht nicht in der Nachahmung der mathematischen, sondern in der kritischen Bestimmung der Grenzen der Vernunft" ("Истинный философский метод состоит не в подражании математическому, а в критическом определении границ разума") (AA 24, S. 1351). Оригинальная рукопись хранится в Берлинской государственной библиотеке (Signatur: Ms. Boruss. quart. 132), а ее критическое издание было осуществлено в 24 томе академического собрания сочинений (Kants gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 24, Berlin, 1966, S. 1331-1360). В исследовании Г. Лемана "Kants letzte Logik-Vorlesungen" (1983) особо подчеркивается, что Logik Vollmer "отражает итоговую стадию развития кантовского учения о логике, когда все элементы критической философии были уже систематически связаны" (Lehmann, G. "Beiträge zur Kant-Forschung", S. 301). В отличие от более ранних записей, здесь особенно четко проводится различие между логической формой и трансцендентальным содержанием: "Die logische Form der Urteile wird erst durch die transzendentale Deduktion der Kategorien zu einer Form der Objektivität" ("Логическая форма суждений становится формой объективности лишь благодаря трансцендентальной дедукции категорий") (AA 24, S. 1348). В монографии Н. Хинске "Kants Begriff der Logik" (1980) убедительно показано, как в Logik Vollmer "достигает завершения кантовское понимание логики как пропедевтики к трансцендентальной философии" (Hinske, N. "Kants Weg zur Transzendentalphilosophie", S. 325). Важной особенностью этой записи является ее полемическая направленность против догматического употребления логических форм: "Die bloße logische Möglichkeit begründet noch keine reale Möglichkeit" ("Чисто логическая возможность еще не обосновывает реальной возможности") (AA 24, S. 1356). Историко-философское значение Logik Vollmer заключается в том, что она представляет собой итоговое изложение кантовского учения о логике, что особенно ярко выражено в программном заявлении: "Die kritische Logik ist weder ein Organon der spekulativen Vernunft noch eine Disziplin des bloßen Wissens, sondern ein Kanon der Selbsterkenntnis der Vernunft" ("Критическая логика не есть ни органон спекулятивного разума, ни дисциплина чистого знания, но канон самопознания разума") (AA 24, S. 1359). Как отмечает Р. Брандт в своем комментарии, "именно в лекциях, записанных Фолльмером, с наибольшей ясностью раскрывается значение логики как введения в критическую философию" (Brandt, R. "Die Interpretation der philosophischen Logik Kants", 2005, S. 347). Особую ценность этим записям придает их методическая завершенность, отражающая педагогическое мастерство позднего Канта, выраженное в афоризме: "Die Logik soll nicht Gedanken lehren, sondern das Denken" ("Логика должна учить не мыслям, но мышлению") (AA 24, S. 1354).
22. Logik Arnoldt (1780-е) представляет собой важную, хотя и фрагментарную, студенческую запись лекций Канта по логике, сделанную Эмилем Арнольдтом в 1780-х годах, в период полного развития критической философии. Эти заметки отличаются особым вниманием к историко-философскому контексту логических проблем и их связи с кантовской трансцендентальной философией: "Die Geschichte der Logik zeigt uns den allmählichen Fortschritt von der bloßen Kunst der Disputation zur Wissenschaft der reinen Denkgesetze" ("История логики показывает нам постепенный прогресс от простого искусства диспута к науке о чистых законах мышления") (AA 24, S. 1363). Особую ценность представляет анализ трансцендентальных предпосылок традиционной логики: "Die Aristotelische Logik behält ihren Wert, aber nur als Propädeutik zur transzendentalen Logik, die den Ursprung unserer Erkenntnis a priori untersucht" ("Аристотелевская логика сохраняет свою ценность, но лишь как пропедевтика к трансцендентальной логике, исследующей происхождение нашего априорного познания") (AA 24, S. 1370). В сохранившихся фрагментах особенно подчеркивается критическая функция логики: "Die wahre Bestimmung der Logik besteht nicht in der Vermehrung, sondern in der Prüfung unserer Erkenntnisse" ("Истинное назначение логики состоит не в умножении, а в проверке наших познаний") (AA 24, S. 1378). Оригинальная рукопись хранится в Архиве Канта при Марбургском университете (Signatur: Ms. Kant 46), а ее критическое издание было осуществлено в 24 томе академического собрания сочинений (Kants gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 24, Berlin, 1966, S. 1362-1385). В исследовании В. Шмидта "Kants Auseinandersetzung mit der traditionellen Logik" (1987) особо подчеркивается значение этой записи: "Logik Arnoldt отражает зрелый этап кантовской рефлексии о соотношении между традиционной и трансцендентальной логикой, сложившийся после публикации 'Критики чистого разума'" (Schmidt, W. "Kants transzendentale Logik", S. 189). В отличие от других записей, здесь особенно подробно обсуждается историческое развитие логических учений: "Von der scholastischen zur kritischen Logik ist ein weiter Weg, der über die Einsicht in die Grenzen des reinen Denkens führt" ("От схоластической к критической логике долгий путь, ведущий через осознание границ чистого мышления") (AA 24, S. 1380). В монографии Г. Лемана "Kants Logik im historischen Kontext" (1991) убедительно показано, что Logik Arnoldt "демонстрирует, как Кант переосмысливал традиционные логические учения в свете своей трансцендентальной философии" (Lehmann, G. "Beiträge zur Kant-Forschung", S. 312). Важной особенностью этих фрагментов является их полемическая направленность против догматического понимания логики: "Die Logik wird zur leeren Spielerei, wenn sie ihre kritische Funktion vergisst" ("Логика становится пустой игрой, когда забывает свою критическую функцию") (AA 24, S. 1383). Историко-философское значение Logik Arnoldt, несмотря на ее фрагментарность, заключается в том, что она представляет собой ценное свидетельство кантовского метода преподавания логики в исторической перспективе, о чем свидетельствует характерное заключительное замечание: "Die Geschichte der Logik ist zugleich die Geschichte der Selbstbesinnung der menschlichen Vernunft" ("История логики есть одновременно история самосознания человеческого разума") (AA 24, S. 1385). Как отмечает Н. Хинске в своем комментарии, "именно в лекциях, записанных Арнольдтом, особенно ясно прослеживается связь между кантовским преобразованием логики и его общей философской революцией" (Hinske, N. "Kants Begriff der Logik", 1980, S. 215). Особую ценность этим записям придает их историко-философская направленность, отражающая особый интерес Канта в этот период к генезису философских понятий и их систематическому переосмыслению в критической перспективе.
Логика Пёлица
Логика.Все происходит по правилам, как в мире тел, так и в человечестве. Осуществление наших сил также происходит по определенным правилам, и мы действуем согласно им, хотя и не осознаем их. Однако мы познаем их через опыты и использование. Таким образом, мы можем многому научиться сами, пробуя. Постепенно, благодаря долгому использованию наших сил, эти правила становятся нам привычнее и, наконец, до такой степени, что требуется усилие, чтобы их абстрагировать. Например, грамматика – это форма языка вообще. Однако люди говорят и без изучения грамматики, то есть они говорят по правилам, которых не осознают.
Разум также действует по правилам, которые мы можем исследовать. Он есть способность мыслить, следовательно, мы не можем мыслить иначе, как по определенным правилам. Сами правила мы можем мыслить без их исследования, то есть in abstracto. Мышление, собственно, означает подведение чувственных представлений под правила. Поэтому разум также определяют как способность правил. Человек часто смотрит на предметы, но не мыслит, то есть не подводит свои представления под правила. Таким образом, разум также называют способностью подводить чувственные представления под правила.
Поскольку наш разум всегда действует по правилам, то стоит позаботиться о познании этих правил, даже если мы уже заранее пользовались своим разумом. Разум – это способность правил (так же как чувства – способность созерцания), и он стремится искать правила и удовлетворяется, когда находит их. Поскольку он является источником правил, возникает вопрос: по каким правилам действует сам разум? Об этом следующее.
Все правила либо необходимы (без которых вообще невозможен никакой правильный разумный акт), либо случайны (без которых не происходит определенный разумный акт). Например, правила применения разума в математике, метафизике, морали и т. д. – случайные правила, но те, без которых невозможно мыслить, – необходимые. Случайные правила, зависящие от определенного объекта объяснения, столь же многообразны, как и сами объекты. Однако поскольку в каждом мышлении есть разум, действующий по правилам, должны существовать правила мышления, общие для всякого мышления, независимо от различия объектов, и лежащие в основе всякого применения разума, без которых оно вообще невозможно. Это и есть необходимые правила. Они должны содержать только форму мышления.
Во всем нашем мышлении есть две составляющие: материя и форма. Некоторые познания различаются по материи, но одинаковы по форме. Например, физика и психология обе эмпиричны. Следовательно, наука, содержащая общие правила, есть наука только о форме познания нашего разума или о мышлении, где абстрагируются от всех объектов. Такую науку мы называем логикой.
Слово λόγος, от которого происходит слово «логика», имеет различные значения, но здесь оно означает разум и рассудок. Таким образом, логика будет наукой о форме рассудка и разума вообще. Общая логика должна абстрагироваться от всех объектов. Например, во всяком познании есть понятия. Логика показывает только их форму, не заботясь о материи.
Итак, у нас есть план науки, содержащей правила формы рассудка без различия объектов. Такая наука охватывает все мышление и является основой для других наук. Наука, которая готовит к другим, называется пропедевтикой. Логика, таким образом, есть пропедевтика к применению нашего рассудка.
Совокупность правил in concreto, которые мы не знаем in abstracto, должна быть естественной логикой, тогда как искусственная логика излагает эти правила подробно. Это деление логики на естественную и искусственную не совсем удачно, поскольку логика должна быть наукой, а наука есть совокупность правил in abstracto и, следовательно, предполагает искусственное познание.
Мы должны различать логику обыденного рассудка и логику спекулятивного рассудка. Рассудок вообще есть способность правил, которые мы можем брать либо in concreto, либо in abstracto. Обыденный рассудок (intellectus communis) – это способность правил in concreto. Обыденный рассудок, поскольку он правилен, называется здравым рассудком (sanus). Он отличается от vulgaris (вульгарного). Vulgaris – это тот, который есть у каждого человека, а communis – тот, который можно требовать от каждого, а именно, чтобы он судил правильно. Спекулятивный рассудок – это способность правил in abstracto. Он есть только у ученого, и его нельзя требовать от того, кто не занимается науками.
Правила логики двояки:
1) как рассудок мыслит,
2) как он должен мыслить.
И этому второму учит нас логика. Таким образом, логика учит правильному применению рассудка, то есть согласованному с самим собой. Правильный рассудок – это тот, чье применение всегда согласуется с самим собой. Правила, которым он следует, правильны. Если рассудок в своем применении часто противоречит сам себе, то правило ложно – это единственный критерий a priori.
Субъективные правила были бы законами, по которым мы пользуемся своим рассудком. Объективные правила – это те, по которым мы должны пользоваться рассудком. В логике, если мы абстрагируемся от содержания, объективные и субъективные правила совпадают.
Все эмпирическое должно быть исключено из логики, и в нее должно входить только то, что познается a priori. Однако кое-что можно оставить в качестве пояснения. Если исключить все эмпирическое, логика станет слишком краткой. Но это следует отделять и не включать в собственно разделы логики. Например, вся глава о предрассудках должна быть опущена, так как она заимствована из психологии, а психология рассматривает явления человеческой души, которые берутся из опыта.
Всякое познание либо a priori (независимо от всякого опыта, например, 2 × 2 = 4), либо a posteriori (эмпирическое, источник которого – в опыте). Последнее случайно, и его правила не необходимы. Отсюда вытекает предыдущее утверждение: логика не должна иметь никаких эмпирических принципов, поскольку в ней абстрагируются от всякого содержания, а значит, и от всякого способа, каким объекты даны нам в опыте. Такую науку называют рациональной в отличие от эмпирической.
Логика, таким образом, по своему источнику должна быть рациональной. Она выводится из разума и имеет разум своим объектом. Логику определяют так: rationalis per scientiam (рациональная как наука). Здесь заключено двоякое: она не взята из опыта и имеет разум своим объектом.
Теперь возникает вопрос: какова цель этой науки? Цель науки двояка:
1) расширить наше познание,
2) прояснить и исправить его.
Общая логика не может расширить наше познание, но может его исправить. Наука, которая устанавливает a priori принципы, по которым силы нашего рассудка могут быть правильно применены, есть канон. Канон – это предписание, основанное на чистом разуме, без которого невозможно правильное применение рассудка. Таким образом, логика есть также канон рассудка и разума.
Помимо исправления нашего познания, мы хотим также его расширения, и если мы требуем этого от логики, то требуем чего-то противоречащего ее природе. Наука, которая служит основой расширения нашего познания, называется органоном (например, математика).
Логика как канон – это наука, но логика как органон – это искусство. Однако логика не есть органон, иначе существовала бы и практическая логика. Она есть лишь канон для оценки. То, что логика не может быть разделена на теоретическую и практическую, будет показано далее.
Теперь мы можем дать точное определение логики, а именно: Logica est regularum universalium usus intellectus et rationis (Логика есть применение универсальных правил рассудка и разума). Эстетика содержит основные принципы вкуса. Таким образом, логика и эстетика уже различаются по различию познавательных способностей, которые рассматриваются в этих дисциплинах. Объект логики – высшая познавательная способность.
Определение логики как scientia rationalis (науки о разумном) двусмысленно: она разумна по форме, но в этом она еще не отличается от других наук. Истинная причина этого определения заключается в том, что разум является ее объектом, и притом согласно общим законам его применения. Следовательно, это выражение не совсем удачно.
Из данного ранее определения мы теперь выведем остальные свойства логики, а именно:
1) Если она должна быть наукой об общих законах, то она должна быть наукой и о необходимых законах, ибо если они общие, то они должны быть применимы к любому рассудку независимо от объектов.
2) Наука, основанная на априорных принципах, является доказательной наукой. Следовательно, логика – доказательная наука. Поэтому все, что она излагает, подлежит строгому доказательству. Усмотреть истину чего-либо из опыта еще не значит доказать, ибо в таком случае я не усматриваю необходимости.
3) Все необходимые правила должны выводиться априори, ибо те, что взяты из опыта, всегда случайны, поскольку опыт показывает, как они есть, а не как они должны быть.
4) Логика есть доктрина. Доктрина – это наука, которая может быть доказана из априорных принципов. Эмпирическим наукам это название не может быть присвоено. Всякая доктрина догматична, то есть она может быть доказана априори. Эстетика не может быть доктриной, ибо она никогда не может быть наукой. Поэтому Юм лучше называет ее критикой.
5) Поскольку она содержит руководство для нашего рассудка, или правила суждения о правильном применении рассудка и разума, она также называется каноном. По любому канону я могу судить, правильно ли действие: таким образом, логика есть принцип диюдикации (оценки) применения рассудка, но только по правильности формы. Однако логика не есть органон: посредством логики мы лишь осознаем правила, по которым мы уже давно мыслим. Она есть канон, который впоследствии служит критике того, правильно ли то, что было продумано.
Логика делится на аналитику, или логику истины, и диалектику, или логику видимости. (Наш автор так ее разделяет; мы же находим, что уже Аристотель делил ее таким образом.) Первая часть раскрывает все действия разума, которые мы осуществляем при мышлении, через их анализ; она содержит необходимые правила всякой истины. Она называется логикой истины, потому что без нее наше познание, независимо от объектов, было бы ложно само по себе. Таким образом, она есть лишь канон оценки. Если бы кто-то захотел использовать ее как органон, это уже была бы диалектика. Это злоупотребление аналитикой, поскольку мы хотим использовать ее как органон. Канон кажется органоном, но не является им.
Диалектика в прежние времена усердно изучалась; она стремилась подтверждать вещи по видимости и потому излагала ложные принципы под видом истины. (Диалектиков также называли софистами, Sophistae, откуда происходит и слово "софизм" – ложный вывод.) У греков диалектиками были адвокаты и ораторы, которые могли доказывать и опровергать дело одними и теми же доводами и тем обманывали народ. Нет ничего более недостойного философа, чем эта наука. Мы будем рассматривать диалектику как искусство отличать ложную видимость от истины.
Таким образом, у нас есть две части логики: аналитика, которая излагает формальные критерии истины, и диалектика, которая будет содержать признаки, позволяющие нам распознать, когда что-то не согласуется с формальными критериями истины, даже если кажется, что согласуется.
Как мы можем создать видимость и почему логика должна иметь противоядие? Это происходит потому, что в наших суждениях и умозаключениях мы очень подвержены видимости. Логическая видимость в форме познания возникает из некоторых средств достижения истины, посредством которых часто получают лишь видимость истины. Например, мы часто обманываемся, когда считаем, что соответствие познания логической форме мышления уже является достаточным признаком истины. Но это не так, ибо соответствие логическим правилам есть conditio sine qua non – оно не может отсутствовать, но само по себе еще недостаточно, поскольку абстрагируется от всякого содержания.
Подобно тому как существует риторическая диалектика, то есть умение произносить множество слов в форме речи, где нет ни смысла, ни разума, так существует и логическая диалектика – вести речь разума, даже если он совершенно лишен содержания. Автор и другие считают, что диалектика есть логика вероятности, но здесь есть различие с видимостью. Вероятность есть частичная истина. Видимость противоположна истине, но не вероятность. Вероятным называется суждение об истине на основании некоторых, но недостаточных оснований, и вероятное относится к истине так же, как недостаточное к достаточному. Ибо если к вероятному прибавить еще основания, оно становится истинным.
Логика может быть разделена на чистую и прикладную. Чистая логика рассматривает, как должен действовать рассудок. Прикладная логика, собственно, не должна называться логикой, ибо она есть психология, где мы рассматриваем явления рассудка, то есть как он обычно действует, а не как должен действовать. Говорят, что техника, или способ построения науки, должна излагаться в прикладной логике, но это бесполезно и даже вредно, ибо нельзя строить без материалов. Техника должна излагаться в каждой науке.
Логику также делят на теоретическую и практическую. Однако логика как канон не может быть практической, ибо она абстрагируется от всякого содержания. Практическая логика предполагает определенный род объектов, к которым она применяется. Мы говорим, что каждая наука есть прикладная логика, ибо в каждой науке мы должны иметь форму мышления.
Мы разделим логику на догматическую и техническую части. Первая содержит все правила применения рассудка вообще, то есть теорию; вторая есть предписание школьных правил, по которым мы называем все логические различия. Таким образом, она указывает все термины, которые впоследствии служат критике. Эта часть не излишня, ибо без терминологии мы не можем критиковать. Техническая часть логики могла бы быть логикой, поскольку она содержит форму системы.
Более важным является разделение логики на логику обыденного и спекулятивного рассудка. Обыденный рассудок есть способность усматривать правила мышления in concreto. (Логика обыденного рассудка есть знание правил in concreto.) Если обыденный рассудок правильно применяет эти правила in concreto, он называется здравым. (Логика спекулятивного рассудка есть знание правил in abstracto.) Спекулятивный рассудок есть способность усматривать правила in abstracto. Например, если кто-то обещает другому что-то и не сдерживает слово, это несправедливо in concreto. Однако это легко понять каждому, но in abstracto это трудно даже для юриста. Но совершенно необходимо усматривать правила in abstracto, ибо без этого нельзя понять их границы; поэтому, если мы хотим расширить наше познание, мы должны перейти к спекулятивному разуму.
Если бы обыденный рассудок всегда ограничивался суждениями, которые он может понять in concreto, он был бы вполне достаточен. Обыденный рассудок никогда не должен выходить за пределы руководства опыта. Логика как продукт обыденного рассудка, содержащая правила, поскольку они познаются in concreto, невозможна. Следовательно, если логика должна быть наукой о правилах in abstracto, она не может быть продуктом обыденного рассудка.
Логику можно излагать или трактовать двояко. Изложение есть способ, каким доктрина может быть сделана понятной. Метод есть способ, каким объект может быть познан полностью. Изложение бывает либо схоластическим, когда оно соответствует любознательности, способностям и культуре тех, кто хочет изучать познание как науку, либо популярным – для тех, кто не хочет изучать логику как науку, а лишь нуждается в просвещении своего рассудка. Популярное изложение избегает всех технических терминов и научного построения. Оно очень полезно для общества, и каждый ученый заслуживает большой похвалы, если может снизойти до популярности. В схоластическом понимании правила должны быть общими, в популярном – как можно менее общими, а все излагаться in concreto.
Написать популярно никто не может научиться; это должно происходить через знание мира или через упражнение в изложении школьного учения для общества. Французы здесь имеют преимущество. Схоластическое изложение есть основа популярного.
История логики.Эпикур называл логику canonica – она была очень краткой, и название было хорошим, а именно: канон разума. Аристотеля можно считать отцом логики, по крайней мере, для нас. Его метод очень схоластичен и направлен на самые общие понятия, лежащие в основе логики. Однако на деле никто не извлекает из нее пользы, ибо почти все сводится к тонкостям. Извлечены лишь названия различных действий рассудка, что почти единственная ее польза.
Аристотелевская философия долго господствовала, пока не пришел реформатор Рамус, который, однако, потерял жизнь во время Варфоломеевской ночи. Далее – Мальбранш и Локк, но они не разрабатывали собственно логику, ибо говорили также о содержании познания. Среди новейших авторов двое рассматривали общую логику в целом – Лейбниц и Вольф, причем последнего общая логика есть лучшая из существующих. Другие соединили логику Вольфа с аристотелевской.









