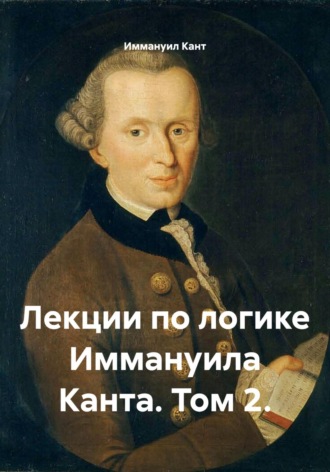
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
Логика Вольфа была сконцентрирована Баумгартеном – человеком, имеющим здесь большие заслуги, – а над ним писал комментарии Мейер.
Заметим кратко: Аристотель излагал логику как органон и делил ее на аналитику и диалектику. Он проявил почти величайшую проницательность в своих сочинениях среди всех древних, однако у него было много мелочей.
Схоласты, которые всегда соперничали в том, кто лучше объяснит Аристотеля, потеряли свой авторитет после Реформации. Затем пришли скептики, среди которых Лулл, Дэвид Юм и Бейль, которых можно назвать также антилогиками (то есть теми, кто вводит рассудок в неуверенность). Сюда же относится книга, автор которой неизвестен, – "Recherches de la vérité".
Ламберт в своем "Органоне" кое-что определил в отношении логики.
О познании.Все наши познания имеют двоякое отношение:
1) отношение к объекту, то есть представление;
2) отношение к субъекту, то есть сознание этого представления.
Собственно говоря, сознание есть представление о том, что во мне есть другое представление. Автор пытается объяснить представление, но это тщетно, ибо одно представление всегда должно объясняться через другое.
В каждом познании следует различать:
– материю, то есть предмет,
– и форму, то есть способ, каким мы познаем предмет.
Например, дикарь видит вдали дом, но не знает его назначения. У него в представлении тот же самый объект, что и у другого, но форма различна. Для него это лишь созерцание, для другого же – созерцание и понятие, а именно что это жилище для людей.
Представление, содержащее то, что обще многим, есть понятие;
единичное представление, содержащее то, что принадлежит лишь одному, есть созерцание.
Познание через понятия – дискурсивное познание,
познание через созерцание – интуитивное познание.
Различие формы основывается на сознании:
– если я сознаю представление, оно ясно;
– если не сознаю, оно темно.
Сознание есть существенное условие всякой логической формы познания. Логика занимается не тем, как мы имеем дело с темными представлениями, а предполагает, что они ясны, и только в этом смысле может их рассматривать. Ибо если я не знаю, что имею представление, то не могу применять к нему логические правила.
Темные представления – не предмет логики, ибо здесь мы рассматриваем не то, как возникают представления, а лишь их соответствие логической форме.
Ясные представления.
Все ясные представления можно разделить на:
– отчетливые
– и неотчетливые.
Если я сознаю все представление, но не сознаю многообразия, в нем содержащегося, – представление неотчетливо.
Пример 1:
Я вижу вдали загородный дом и сознаю, что это дом, но при этом у меня есть и представление о его частях (например, окнах), ибо если бы я не видел частей, то не видел бы и целого. Однако, не сознавая этого многообразия, я имею неотчетливое представление.
Пример 2:
В понятии красоты содержится многое:
– она должна быть чувственно воспринимаема,
– должна нравиться всем.
У каждого есть ясное понятие прекрасного, но если он не может разложить его на составляющие, понятие остается неотчетливым.
Ученики Вольфа называют неотчетливое представление смутным, но это выражение неудачно, ибо противоположность смутности – не отчетливость, а порядок.
Хотя:
– отчетливость есть следствие порядка,
– неотчетливость – следствие беспорядка,
но это не одно и то же:
– всякое смутное познание неотчетливо,
– но не всякое неотчетливое познание смутно.
Неотчетливость часто происходит не от путаницы, а от недостатка сознания. В познаниях, где нет многообразия, нет ни порядка, ни беспорядка. Поэтому все простые представления следует называть не смутными, а неотчетливыми.
Нечто может быть отчетливым по форме (я сознаю многообразие в представлении), но менее отчетливым по материи, если степень сознания уменьшается, хотя порядок сохраняется.
Отчетливость.– Неотчетливое представление: я сознаю целое, но не части.
– Отчетливое представление: я сознаю и многообразие, и части в целом.
Однако сознание многообразия в представлении еще не составляет отчетливости, ибо для нее требуется еще и порядок.
Два вида отчетливости.
1. Чувственная отчетливость – сознание многообразия в созерцании.
Пример: Млечный Путь я вижу как светлую полосу на небе; звезды, его составляющие, должны были попасть в мое зрение, но представление было лишь ясным. Через телескоп оно становится отчетливым, ибо я вижу все мелкие звезды в нем.
2. Отчетливость в понятиях (рассудочная) – когда я разлагаю понятие на составляющее его многообразие.
Пример: Добродетель содержит:
– понятие свободы,
– приверженность правилам,
– силу преодолевать склонности, если они противоречат этим правилам.
Такой анализ ничего не прибавляет к понятию, а лишь объясняет его.
Историческое и разумное познание.
– Историческое познание – когда представляется, что нечто есть.
– Разумное познание – когда представляется, что нечто необходимо должно быть.
Последнее есть познание необходимости суждений.
Разум заключает необходимо, ибо выводит все из необходимых условий истины.
Чувственность и рассудок.Все наши познания суть либо созерцания, либо понятия.
– Способность созерцания – чувственность.
– Способность понятий – рассудок.
Чувственность можно определить иначе – метафизически:
– она есть способность восприимчивости,
– рассудок – способность спонтанности, представляющая вещи так, как они есть, а не как они на нас влияют.
Чувственность называют низшей способностью, ибо она дает материал для мышления;
рассудок – высшей способностью, ибо он упорядочивает этот материал под представления и понятия.
Совершенство познания.Познание может быть совершенно:
– по законам чувственности – тогда оно эстетически совершенно,
– по законам рассудка – тогда оно логически совершенно.
Чувственность есть совершенство, поскольку дает материал для мышления и делает правила рассудка наглядными. Но она же есть и несовершенство, если запутывает понятия.
Без чувственности понятия не имели бы объекта и значимы только в созерцании, то есть в чувственности.
Эстетическое и логическое совершенство.
– Эстетическое совершенство познания оценивается по апостериорным нормам.
– Логическое совершенство – по априорным.
Вопрос: Что есть совершенство?
Совершенство есть то, что способствует удовольствию.
– Если нечто нравится по законам разума, оно должно нравиться.
– Если по законам чувственности – не обязательно.
Эстетическое совершенство – соответствие объектов общим законам чувственности, познаваемое лишь из опыта.
Способность суждения.– Способность судить о соответствии с законами чувственности – вкус.
– С законами рассудка – сила суждения.
Приятное, прекрасное и доброе.
Все, что нравится, делится на:
1. Приятное – предмет частного удовольствия.
Пример: Не говорят «это приятно», а «мне это приятно».
Оно бывает либо возбуждающим, либо трогательным.
2. Прекрасное – нравится всем по законам чувственности.
3. Доброе – нравится по законам рассудка.
Истинная красота должна быть совершенно свободна от возбуждения и трогательности.
Чувство и вкус.
– Способность отличать приятное от неприятного – чувство (есть у всех).
– Способность отличать прекрасное от не-прекрасного – вкус.
Оба относятся к чувственной способности суждения.
Доброе и прекрасное.
Сходство: оба относятся к объекту и вызывают всеобщее удовольствие.
Различие:
– у доброго – строгая всеобщность,
– у прекрасного – сравнительная.
Высшее объективное удовольствие – в добром,
субъективное – в приятном.
Доказательство.Всякая строгая всеобщность должна быть доказуема, то есть можно показать, почему нечто нравится и должно нравиться.
– Доброе можно доказать из общих принципов.
– Правила вкуса недоказуемы а priori, ибо суть правила чувственности.
Лишь опыт может решить, верен ли вкус.
Логическое и чувственное совершенство.
– Логическое совершенство – соответствие познания объекту.
– Чувственное совершенство – соответствие познания субъекту.
Логическое совершенство содержит правила, обязательные для всякого разума, ибо познание всех мыслящих существ должно быть одинаковым при рассмотрении одного объекта.
Рассудочное совершенство основывается на всеобщих законах,
эстетическое – на особой чувственности каждого человека.
Гармония логического и эстетического.
1. Логическое совершенство – основа.
2. Чувственность может пояснять понятия наглядно.
3. Надо обращать внимание более на созерцания, чем на ощущения, ибо первые суть существенная красота.
4. Можно добавить возбуждение и трогательность, но осторожно, дабы внимание не перешло с объекта на субъект.
Гений.– Рассудок хочет поучаться,
– чувственность – оживляться.
Между ними есть неразрешимый конфликт. Надо стремиться к наибольшей цели:
– в речи важнее логическое совершенство,
– в поэзии – эстетическое.
Гений есть гармония глубины и красоты в познаниях, которые должны и учить, и радовать.
О совершенстве познания вообще.Совершенство познания бывает:
1) логическое,
2) эстетическое,
3) практическое.
Примечание. Практическое совершенство не относится к логике, так как она занимается познавательной способностью, а не волей. Собственно говоря, и эстетическое тоже не относится, но мы принимаем его здесь лишь для того, чтобы через противопоставление лучше разъяснить логическое.
Эти совершенства основываются на трёх способностях: рассудке, чувстве и желании. Таким образом, совершенство может рассматриваться в трёх аспектах:
1) относительно самой познавательной способности,
2) относительно того, чтобы оно наполняло нас удовольствием,
3) относительно того, чтобы оно не было праздным знанием, а оказывало влияние на наши действия.
Perfectio logica (логическое совершенство) состоит:
1) в отношении количества – во всеобщности,
2) в отношении качества – в ясности,
3) в отношении отношения – в истинности,
4) в отношении модальности – в необходимости.
Логическое совершенство познания рассматривается по четырём главным пунктам:
1) по количеству – когда оно всеобще,
2) по качеству – когда оно ясно,
3) по отношению – когда оно истинно,
4) по модальности – когда оно достоверно.
К пункту 1: Познание, которое служит правилом и подчиняет себе другие познания, совершеннее того, что имеет лишь частное применение.
К пункту 2: Здесь спрашивается: ясно ли познание или неясно? Если оно ясно, то оно совершенно по качеству.
К пункту 3: Отношение познания к объекту есть истина. Если познание предмета не истинно, то это не познание или не познание того объекта, который я, как мне казалось, познавал. Истина – главное. Если же рассматривать только ощущение, то о истине мало заботятся.
К пункту 4: Достоверность – это то, что устраняет всякое сомнение; это сознание необходимости истины.
Теперь рассмотрим соответствующие эстетические совершенства. Можно представить себе:
1) субъективную истину – это не истина вещи самой по себе, а истина вещи, как она нам является и воздействует на наши чувства;
2) субъективную ясность или ясность в созерцании, достигаемую через примеры;
3) эстетическую всеобщность, то есть популярность, когда познание нравится каждому и соответствует любому рассудку;
4) эстетическую необходимость и достоверность, основанную на том, что познание необходимо для наших чувств, то есть подтверждается опытом.
Здесь всегда присутствуют два момента, составляющие совершенство: многообразие и единство. Наша познавательная способность жаждет первого, но если ей недостаёт второго, она не может нас удовлетворить. У рассудка единство – это понятие, у чувств – созерцание.
Истина – главное совершенство, потому что она есть основа единства через отношение к объекту. Даже в эстетическом совершенстве истина – важнейшее негативное условие, ибо удовольствие несовместимо с ложью. Никто не преуспеет в изящных науках, если не положит в основу своих познаний логическое совершенство.
Ни одну науку нельзя назвать прекрасной самой по себе, так как перед применением всегда должны предшествовать правила, а прекрасное должно оцениваться по эффекту, относящемуся к чувственности.
Вкус не может быть подчинён правилам. Хотя можно дать некоторые ориентиры, но они служат для суждения, а не являются законами, обладающими внутренней достоверностью. Правила рассудка, напротив, суть законы.
Всё прекрасное имеет ту особенность, что не может быть трактовано как наука, поэтому не может быть и «прекрасной науки». Единственный путь к обладанию прекрасным и вкусом – изучение прекрасных образцов, которые можно найти у древних. Они выдержали критику многих веков и всегда признавались хорошими, что указывает на их устойчивость.
Признак вкуса в том, что нравится не только одному, но и другим; он имеет нечто общественное, модное и подражательное. Однако вкус развивается последним, так как это способность суждения, которая формируется позже, чем память и рассудок, ибо для суждения нужно уже многое знать.
Мы можем заниматься чем-либо двояко: через досуг или через собственно деятельность (работу). Всё наше взаимодействие с прекрасным – игра, и она допустима, пока остаётся игрой. Если же игра становится делом, это смешно.
Всё это даёт нам указание, как формировать вкус: не по правилам, а по образцам, но не подражая им, а позволяя им оставлять в нас впечатление.
О понятии науки.Наука – это система познаний. Познания бывают обыденные или систематические. Можно иметь множество обыденных познаний, но если они не связаны систематически, они не приносят той пользы, которую могли бы.
Науки бывают:
– рациональные (основанные на всеобщих принципах разума),
– эрудиционные (исторические, которые можно изучить).
Знание и критика языка и книг – инструменты учёности, и их тоже можно к ней отнести.
Философ – не учёный, он рассматривает конечные цели познания. Он также не «художник разума», а изучает законодательство разума. Философия и математика не относятся к учёности, но знание философии других – это учёность. Философ может украшать свою философию учёностью.
Учёность – совокупность исторических наук. Рациональные познания можно приобрести и без обучения у других, как, например, юноша в Англии, ничего не знавший о математике, постепенно сам пришёл ко многим теоремам Евклида.
Философа и математика в отличие от обывателя называют «учёными» (лат. litterati, а не eruditi – последние суть те, кто просто умеет читать и писать).
Совокупность всех исторических наук называется полигисторией, всех рациональных наук – полиматией, а обеих вместе – пансофией. Историческое познание разума, соединённое с философией, можно назвать энциклопедией.
В обширности учёность превосходит рациональное познание, ибо она сама есть наука о рациональном познании, хотя и не является им. Оба отличаются от искусства.
Изящный ум, оратор и поэт – не философы, не математики, не учёные, а художники, ибо прекрасному нельзя научить.
О несовершенстве познания.Всякое несовершенство познания касается либо количества, либо качества. В обоих случаях оно бывает материальным или формальным.
– Логическое (формальное) величие – всеобщность.
– Эстетическое (материальное) величие – обширность.
Чем к большему числу вещей применимо познание, тем оно логически значительнее; чем больше я познаю, тем оно эстетически значительнее.
Материальное несовершенство по качеству заключается в ошибке или ложности, то есть в несоответствии познания объекту. Познание может быть истинным, но неясным, истинным, но не всеобщим.
Несовершенство бывает:
1) несовершенство лишения (imperfectio privative sic dicta),
2) несовершенство противоречия (imperfectio contrarie sic dicta).
Первое можно назвать также негативным несовершенством, когда есть просто отсутствие совершенства.
В логике:
– несовершенство недостатка называется невежеством,
– несовершенство лишения – заблуждением.
Последнее всегда включает первое и хуже его.
Автор делит несовершенство на дефект (defectus) и порок (vitium).
– Imperfectio privative dicta – это дефект,
– Imperfectio contrarie dicta – это порок.
Несовершенство недостатка не порицается, в отличие от несовершенства в строгом смысле.
Ошибки бывают:
– логические или эстетические,
– существенные (касающиеся самой цели),
– несущественные.
Эстетическое несовершенство – сухость.
Логическое несовершенство – поверхностность.
Эстетическое несовершенство – не безобразие, ибо сухость есть недостаток того, что приятно чувствам. Истинное безобразие несовместимо даже с логическим совершенством.
Не следует слишком угождать чувствам, но и не следует их слишком ограничивать. Древние оправдывали свои варваризмы основательностью, но когда науки стали лучше разрабатываться, стало ясно, что нельзя пренебрегать эстетическим совершенством.
Все наши познания, даже если они из опыта, мы должны возводить к понятиям, а понятия, в свою очередь, – к созерцаниям, ибо в общих понятиях легко запутаться.
Двойное совершенство познания.
Всякое познание может иметь два вида совершенства:
1) школьное – соответствующее объективным правилам,
2) популярное – соответствующее субъективным правилам общения.
Первое называется истиной, второе – вкусом.
Тот, кто соблюдает школьную точность там, где она излишня и противоречит вкусу, называется педантом (но не тот, кто демонстрирует её знатоку).
Общее определение: Педантизм – это излишняя точность в формальностях, например, употребление школьных выражений в обществе неучёных.
О горизонте познания.Горизонт – это соответствие границ нашего познания целям человечества, то есть совокупность наших знаний, которая в соединении с имеющейся у нас целью является адекватной. Если мы берем цели в общем смысле, то горизонт абсолютен; если же мы рассматриваем цели частные, в том или ином отношении, то горизонт определяется относительно.
Определение горизонта относится к культуре нашей способности суждения, и хотя это трудная задача, она полезна, так как позволяет избежать большой путаницы в наших понятиях и суждениях. Горизонт можно определить:
1. Логически – в отношении нашей познавательной способности: как далеко мы можем продвинуться и как далеко нужно идти. Или в отношении логической цели: насколько знания служат средством для нашего главного познания как нашей цели. В замысле все должно быть направлено на полноту. Хотя на практике это не всегда достигается. Первое необходимо для философии.
2. Эстетически – в отношении вкуса. Горизонт в отношении вкуса можно также назвать популярностью. Я могу определить горизонт либо по суждению публики, либо по суждению знатоков. Тот, кто не хочет становиться ученым по профессии, а лишь желает знать столько, чтобы участвовать в светских беседах, ищет ходячую ученость, которая нравится всем, даже женщинам, и потому определяет горизонт с точки зрения вкуса. Поскольку приятнее иметь одобрение публики, чем нескольких кабинетных ученых, то обращают внимание лишь на эстетический горизонт или подстраивают науку под вкус публики, что ведет к поверхностности. Это случай с французами.
3. Практически – в отношении пользы. Практический горизонт с точки зрения его влияния на нашу нравственность является прагматическим.
Не следует определять горизонт слишком рано, потому что тогда мы еще не знаем науки и не можем сделать выбор. Также не следует слишком часто его менять – это случается с теми, кто определил его неправильно и поспешно.
То, что я не могу знать, находится над моим горизонтом. То, что я не должен знать, находится вне моего горизонта. То, незнание чего даже похвально, находится под моим горизонтом.
Горизонт исторических знаний безграничен, и их нужно приобретать как можно больше, особенно в юности, когда память наиболее восприимчива и когда еще есть вкус к ним. Позже, когда человек начинает мыслить самостоятельно, вкус к историческим знаниям меняется.
Горизонт математики можно определить, указав, к каким объектам математика не может быть применена. В отношении рационального познания – насколько разум может продвинуться a priori, без опыта, и это полезно, чтобы не предпринимать бесплодных усилий.
Заблуждение – это несовершенство, связанное с искажением. Невежество – несовершенство, связанное с отсутствием, и первое хуже второго, потому что для устранения заблуждения нужно снова впасть в невежество. Невежество – нечто отрицательное, заблуждение – положительное. При устранении невежества мы всегда рискуем впасть в заблуждения, поэтому не должны оставаться невеждами.
К заблуждению ведут две вещи: невежество и любопытство – желание знать больше, чем можно. Невежество – не большой упрек, но это относится лишь к тем, кто обладает многими знаниями и при этом удивляется количеству того, чего они не знают. Автор говорит о похвальном невежестве. Невежество само по себе никогда не похвально, но нежелание знать что-либо или игнорирование может быть похвальным – здесь хвалят не невежество, а размышление, благодаря которому я исключаю знание из остального, то есть абстрагируюсь, а не игнорирую.
Древние различали идиотов и софистов. Идиот – это человек, который мнит себя знающим, но на самом деле ничего не знает. Незнание своего невежества – упрек, а знание его – наука. Ибо тот, кто ничего не знает, не знает и того, что он невежествен.
Противоположность невежеству – многознание. Историческое знание без определенных границ – это полигистория, а рациональное знание, распространенное без четких границ, – полиматия. Но оно должно включать и исторические знания, иначе от спекуляций не будет применения. Оба могут называться пансофией.
К первой относится филология – наука об инструментах учености. Критические знания книг и языков составляют филолога. Часть филологии называется гуманиора, а тот, кто ею занимается, – гуманист. Гуманиора – это наставления в том, что служит культуре вкуса. Все эти знания должны быть сведены к главной науке, а остальные рассматриваются лишь как средства для ее достижения.
Все науки взаимосвязаны, и можно заниматься науками без связи – это практическая полигистория. Но если поставить главную науку и рассматривать остальные как средства для ее достижения, то это система.
Ученых можно разделить на цеховых и свободных. Если бы науки не превратились в хлебные ремесла, мы бы не продвинулись в них так далеко. Каждая наука как свободное искусство имеет много преимуществ: полную свободу и возможность очищать знание от всех заблуждений и предрассудков, но у нее нет достаточного побуждения и усилия для совершенствования.
Автор теперь говорит об ошибке, касающейся использования наших знаний, а именно о педантизме. В использовании познания можно различить, что применение более пригодно для школы, чем для мира. Первое включает метод и форму полезного преподавания и изучения, которые, однако, могут отпасть в применении.
Школьное совершенство состоит в дидактической форме, пригодной для точного изучения познания, а также для обучения новичка по всем правилам искусства преподавания. Наше изложение может быть школьным или популярным. Ученый по профессии должен владеть школьным изложением. Школьное всегда первично, и в школьном совершенстве мы соблюдаем все правила основательности, без которых наука была бы лишь забавой.
Но если мы хотим сообщать наши знания миру, дидактические поучения должны отпасть, и методы, служащие поддержанию дидактической формы, должны быть опущены. Некоторые науки не могут быть популярными, например, математика. Однако популярное совершенство не должно вытеснять школьное: чтобы угодить публике, основательность не должна исчезать.
Педантизм – это несовершенство, когда хотят излагать публике что-то в манере, принятой в школах. Среди всех педантов ученый – самый терпимый. У него можно учиться, так как предполагается, что он учен. Хотя у него не так много приятности, как у того, кто может выражаться популярно, но он все же полезен. Педанты в других областях обычно пустоголовы.
Ошибка, противоположная педантизму, – галантность. Галантный человек приписывает кому-то достоинства, которые тот сам себе не приписывал бы, исходя из превосходства своей утонченности над другим. Это распространяется и на стиль письма, и никто не пишет так галантно, как французы. В этом есть нечто привлекательное и соблазнительное, что опасно, так как побуждает ценить одобрение дилетантов выше, чем знатоков, отсюда и поверхностность у французов.









