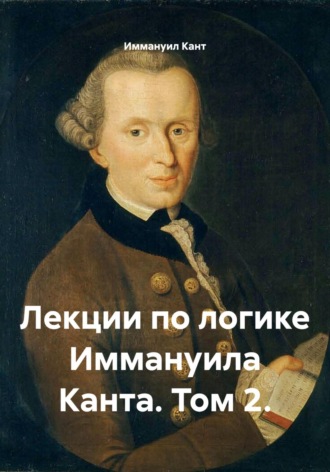
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
3. Сентенции – суждения, имеющие авторитет, потому что рекомендуются сами благодаря выразительности мысли. (По-немецки их можно назвать Sinnsprüche.) Они отличаются от bon mots – острот, которые привлекают скорее остроумием, чем зрелостью суждения. Сентенции сохраняются веками, потому что суждение, являющееся первоначальным продуктом разума и содержащее в сжатой форме много смысла, само себя рекомендует.
4. Каноны (по-немецки Lehrsprüche и Proverbia Denksprüche) – всеобщие поучительные изречения, служащие основанием наук. Они могут быть выражены и в форме сентенций, и тогда нравятся больше.
5. Пословицы (Proverbia, Sprichwörter) – общеупотребительные выражения, представляющие популярные суждения здравого смысла. Они содержат ходячую мудрость простого разума и служат для того, чтобы дать представление о его природе. Они локальны, тогда как сентенции универсальны. Хотя они могут служить сентенциями и канонами для самой простой толпы, поэтому среди людей более тонкого воспитания их не встретишь.
Предрассудки укрепляются, когда человек полагает свою мудрость в сентенциях и пословицах, следует им и никогда не пытается мыслить самостоятельно.
Предрассудок авторитета.
Авторитет бывает разным: авторитет эпохи, личности, толпы, века или целого народа. Отсюда возникают предрассудки, или здесь чувства опережают разум, поэтому они и называются praejudicia (предубеждения) – суждение как бы уже принято заранее в пользу толпы, личности и т. д.
Они основываются на склонности (тяготении) присоединяться к чужим суждениям, и такое суждение из подражания можно назвать рабским.
Есть также предрассудки из самолюбия, когда человек склонен в пользу того, что является продуктом его собственного разума.
Об авторитете личности.
В исторических вопросах он должен быть основой наших суждений, потому что в вещах, основанных на опыте и свидетельствах, мы не можем охватить все своим разумом, а должны строить свое познание на авторитете других людей. Однако это не praejudicium (предубеждение).
Но если познания таковы, что могут быть решены только разумом, то авторитет других не является истинным основанием для признания их истинными. Однако если он становится основанием, создающим в нашем разуме склонность к чему-то, то это praejudicium auctoritatis (предубеждение авторитета).
Истины разума значимы анонимно, то есть не нужно спрашивать, кто их сказал, а что сказано.
Авторитет личности согласуется с нашей склонностью, потому что он косвенно льстит нашему тщеславию. Если человека возносят как ученого, то его хвалят за это, потому что все его хвалят, и здесь все равны, поскольку перед великим человеком они – ничто, а различия между почитателями считаются незначительными.
Цитаты ученых мужей в разумных познаниях не могут служить доказательством, хотя они имеют некоторый вес для укрепления нашей веры. Это внешний критерий истины – всеобщее согласие человеческого разума.
В метафизических положениях это неприменимо, но в юриспруденции – да, поэтому видно, насколько ненадежны юридические суждения. Причина здесь – многообразие случаев, которые невозможно заранее предусмотреть или определить в законе.
Об авторитете толпы.
К нему склонна чернь, потому что она не может судить о заслугах и способностях личности и поэтому держится за мнение большинства. Она предполагает, что что все люди говорят – истинно, но только в исторических вопросах; в религиозных делах, где она заинтересована, она доверяет ученым.
Предрассудки не всегда ложны.
Если я принимаю что-то из предрассудка, это может быть истинным, но то, что я принимаю это с предрассудком, логически вредно.
В отношении вида познания особенно характерно, что невежда имеет предрассудок в пользу учености, приписывая ученому больше знаний даже там, где их не может быть (например, о состоянии после смерти).
Ученый, в свою очередь, имеет предрассудок в пользу здравого смысла, когда у него возникает недоверие к учености – особенно если все его усилия не приносят должного удовлетворения. Это встречается у тех, кто уже прошел круг наук и сталкивается со спекуляциями, которые не могут сделать свои понятия чувственными и чьи основания шатки (как в метафизике и морали). Он верит, что ключ к этому можно найти, и ищет его в здравом смысле, но это обманчиво, потому что если культивированная способность ничего не достигает, то некультивированная и подавно ничего не достигнет.
Апелляция к здравому смыслу – это не что иное, как апелляция к толпе, потому что каждый претендует на здравый смысл.
В метафизике это совершенно неприменимо, потому что там нельзя представить конкретный случай, но в морали – особенно, где все случаи могут быть даны конкретно, поэтому здесь здравый смысл часто судит вернее, чем спекулятивный разум.
Например, юридическое правило "casum sentit dominus" (хозяин несет риск) правильно для спекулятивного разума, но здравый смысл видит, что это ложно, хотя и не может указать причину.
Вообще, практическое применение разума ближе к применению здравого смысла, чем спекулятивного разума, и все правила морали в абстракции, если они не рассматриваются конкретно, ошибочны.
Логический эгоизм.Противоположность предрассудку авторитета – логический эгоизм. Это принцип безразличия ко всем чужим суждениям как критериям истины.
Согласие других суждений, конечно, недостаточно, но все же является критерием, потому что мое познание может быть сильно искажено субъективными причинами, которых у другого нет (хотя у него есть свои).
Есть только одна наука, где мы можем полагаться исключительно на свое суждение, не совершая ошибки, – это математика.
Но в философском и дискурсивном познании мы не всегда можем считать согласие других излишним, потому что ошибки, которые здесь так легко совершить, невозможны в интуитивных познаниях.
Провидение пожелало, чтобы мы отдавали наши суждения на суд общего человеческого разума, то есть поскольку многие в нем согласны. Хотя тщеславие тоже имеет здесь влияние, но мы все же через это учимся.
Предрассудок древности.
Один из важнейших. Он возникает потому, что древние, так сказать, не хотят перековываться в новую форму.
Здесь есть и нечто более общее, что может освободить даже молодых людей: мнение, что все со временем становится хуже, но это пустая жалоба.
Замечание: В природе есть нечто непреходящее, неизменное и непостижимая тайна – а именно, что виды остаются теми же, хотя индивиды меняются.
О субъективных причинах использования разума.Изучение субъективных причин применения рассудка и разума объясняет, почему человек пользуется своим разумом так, а не иначе.
Логика показывает, как нам следует пользоваться разумом, а не как мы им пользуемся. Она не рассматривает, испорчен ли разум или нет.
Учение о предрассудках поэтому не принадлежит собственно к логике, а к антропологии. Но его включают сюда, потому что оно может быть очень полезным в применении логических указаний.
Особый феномен.Мы слишком высоко ценим вещь, если раньше считали ее недостойной уважения, и наоборот: если от чего-то многого ожидали, а потом не нашли этого, то унижаем это гораздо сильнее, чем оно заслуживает.
Предрассудок древности проистекает из упомянутого заблуждения, что все ухудшается.
Иногда предрассудок возникает из противоположной причины. Они часто происходят из неблагоприятного суждения о том же самом.
Здесь восхищение смешано с удивлением: последнее возникает, когда находишь что-то там, где не искал, а восхищение – это общее чувство, когда мы находим что-то очень великое.
Однако часто случается, что удивление перерастает в восхищение, хотя они разного рода, что и происходит здесь.
Об античности у нас в основном неблагоприятное суждение, исходя из обстоятельств их времени. Если мы находим у них что-то, чего не искали, то удивляемся этому или считаем их умнее, чем они были на самом деле, – отсюда возникает восхищение, и тогда это становится предрассудком.
Еще одна причина предрассудка древности.
Знания, которые мы имеем о древних, для нас – ученость, которая всегда вызывает уважение, отсюда возникает склонность и благосклонность к самим древним, чтобы изучение, которому мы посвятили время, не оказалось напрасным.
Суждение, пришедшее от древних, само по себе может быть весьма заурядным и плохим, однако оно демонстрирует ученость и начитанность. Это доходит даже до удаленности места: если, например, кто-то цитирует Конфуция, это придает суждению благосклонность. У нас есть основание благоприятно судить о древности, без того чтобы в этом заключалось предубеждение, но это лишь основание для умеренного уважения, которое мы слишком часто преступаем. А именно, поскольку время словно просеивает всё и сохраняет лишь то, что имеет внутреннюю ценность, у нас остались лишь лучшие писания древних, и мы ошибаемся, если думаем, что все они писали так. Они не имеют абсолютной ценности, а лишь относительную, даже плохие, которые потерялись; особенно у философов этот относительный ценностный статус превращают в абсолютно высокий. Так, предубеждение заставляет наших потомков думать, что мы были гигантами в разуме, и в том же соотношении мы находимся с древностью. Это приводит нас к тому, что мы доверяемся пассивному руководству древности или пренебрегаем использованием своих талантов.
Иногда древность и предубеждение в её пользу падали, а именно в начале этого века, когда знаменитый Фонтенель встал на сторону новых. В изложении они остаются и останутся нашими учителями, и их следует сохранять в этом смысле, но не как казначеев наук и познаний. То, чему они могли научить, уже давно извлечено, и возвращаться к ним – значит уводить разум с правильного пути.
Третья причина предубеждения в пользу древних – благодарность, что они проложили путь ко многим знаниям, и кажется справедливым воздавать им за это честь, что мы часто делают сверх меры. К этому добавляется ещё и осознание, что мы тоже когда-то состаримся.
Последняя причина предубеждения в пользу древних – зависть к современникам. Тот, кто не может соперничать с новыми, считает их ничтожными по сравнению с древними, чтобы они не возвысились над ним. Всё это показывает, на какой иллюзии основано превознесение древних.
Примечание. Из всех знаний ни одно не раздувает тщеславие больше, чем филологическое, поскольку здесь есть некоторая всеобщность познания, хотя и лишь историческая. Философия смиряет гордыню и скорее порождает мизантропию. Филологи же не продвигают разум дальше.
Предубеждение новизны противоположно предыдущему. Если познание человека способно к расширению, то естественно, что мы можем больше доверять новым, чем древним; мы находимся в выгодных обстоятельствах – это верное предварительное суждение, но ещё недостаточное. К предубеждению добавляется склонность к новому, потому что мы настроены на образ мышления нашего века, а не потому, что разум это понимает. Однако это предубеждение также вызывает сильные подозрения, поскольку всегда можно предположить, что автора побуждал дух новизны (как это часто бывает) противопоставить давно доказанной истине видимость, которая, возможно, продержится какое-то время.
Предубеждение принятой системы учения также заслуживает внимания. Система учения – это выведение многих знаний из одного принципа, за что мы получаем предпочтение, поскольку игнорируем некоторые ошибки. Предпочтение хорошо, если система не основана на ложных принципах.
Примечание. Суждения не всегда ложны потому, что происходят из предубеждения; часто они верны, только modus acquirendi (как говорят юристы) незаконен. Я проложил широкий путь ложному познанию, и способ часто важнее самого познания.
О вероятном познании.Здесь, как и во всех логиках, есть ошибка в выражении. Вместо того чтобы говорить познание вероятного, говорят вероятное познание. Моё познание о вероятном объекте может быть достоверным и правильным, только я считаю сам объект вероятным. Познание вероятного хорошо, но логика о нём не может быть чистой, поскольку здесь уже есть объекты. То, на чьей стороне больше оснований для свершения, чем на противоположной, я считаю вероятным. Всю вероятность можно выразить дробью: знаменатель – число всех возможных случаев, числитель – число действительных случаев. Вероятность, таким образом, – это принятие за истину из недостаточных оснований, которые, однако, имеют большее отношение к достаточным, чем основания противоположного. Практически достаточны и вероятные познания, но логически – нет.
Видимость – это значимость познания из недостаточных оснований, поскольку они больше, чем основания противоположного. Здесь я сравниваю их не с достаточными основаниями, а только с основаниями противоположного, поэтому я не знаю, сколько нужно для достоверности, как в случае вероятного познания. Видимость даёт предварительное, вероятность – определяющее, но не аподиктическое суждение.
Вероятность можно выразить и математически: а именно, она больше половины достоверности. Половина достоверности сомнительна.
Степень принятия за истину в вероятности объективно значима, в видимости – субъективно. При каждой вероятности всегда должна быть мера, а именно достоверность, но она разная у разных людей: один требует больше, чем другой.
Если основания принятия за истину однородны, то степень принятия зависит от их количества, или же их нужно пронумеровать; если они разнородны, их нужно взвешивать. С первыми быстро справляются, там все согласны, но со вторыми сложнее. Таким образом, вероятность нельзя оценить в философских познаниях, но можно в математических.
Много говорили о логике вероятного, но она по указанной причине невозможна. В вероятности абстрагируют из обычной процедуры правила разума и принимают их за логические, но они – не более чем правила, абстрагированные из обычной практики разума и приведённые в общие формулы.
Познание вероятного должно быть достоверным, то есть я должен быть уверен, что оно вероятно. Чисто вероятному познанию нельзя следовать, но оно может побудить нас исследовать основания.
Контраргумент принятия за истину – препятствие. Субъективное препятствие – сомнение. Объективное препятствие – возражение. Сомнение – ещё не основание считать что-то ложным, а лишь основание для приостановки суждения. В обычном словоупотреблении dubium (объективное основание) и dubitatio (субъективное основание) часто смешивают. Субъективное основание сомнения значимо только для меня, но объективное должно действовать для любого другого.
Скрупул – препятствие принятию за истину, когда я не знаю, объективное оно или субъективное. Если оно чисто субъективно, то незначимо, так как это лишь видимость; если мы знаем, что оно чисто субъективно, оно не может нас обмануть. Причина – склонность, привычка и т. д.
Например, если мы находим новое суждение и одновременно имеем самые сильные основания для него, мы всё же не можем в нём утвердиться – это скрупул. Но если я понимаю, что здесь есть что-то субъективное во мне, это перестаёт быть скрупулом, и тогда я обнаруживаю видимость.
Во многих случаях мы не можем дойти до этого, поскольку не всегда можем сравнить наше познание с объектом, а только познания между собой.
При каждом скрупуле есть препятствие в субъекте, только я хочу знать, только ли в субъекте. Скрупул нельзя устранить, пока он не превращён в возражение, и большое искусство – заранее угадать скрупулы, которые могут возникнуть.
С помощью возражений я не опровергаю, а лишь ослабляю достоверность, и достоверность через них доводится до ясности и полноты.
Каждый должен выслушивать возражения, и никто не может быть уверен в чём-то, если не возбуждены контраргументы, которыми можно определить, насколько ещё далеко от достоверности или как близко к ней.
Узел (возражение) можно разрубить, показав, что нет необходимости заниматься его разрешением. Например, как можно примирить зло в мире с мудростью Бога.
Нужно различать: ответить на возражение и ответить ему. Даже против самых необоснованных мнений тот, кто их придерживается, сможет что-то ответить, иначе он станет смешным, но сможет ли он ответить на них – другой вопрос.
Ответить – значит показать, как возник скрупул. Если этого не происходит, он отклонён, но не устранён.
В латыни слова verisimilitudo и probabilitas: первое лучше переводить как правдоподобное в противоположность истинному, и оно касается только познания. Объект либо вероятен (probabel), либо невероятен (improbabel).
О принципе сомнения в отношении принципа утверждения.Тот, кто в своём познании выбирает утверждение как цель, – догматик. Тот же, кто придерживается максимы обращаться с познанием так, чтобы делать его недостоверным и показывать невозможность достижения достоверности, – скептик (σκεψασθαι означает исследовать). Первые скептики исследовали вещи и приостанавливали своё суждение, пока скептицизм был максимой приостановки суждения ради исследования.
Что такое максима? Когда объективные правила становятся субъективными, то есть когда мы действуем согласно им, – это максима.
Максима сомнения – не то же самое, что понимание основания для сомнения в чём-то. Я сомневаюсь в своей внимательности: выполнил ли я всё, что требует разум, прежде чем вынести окончательное суждение.
Есть максимы догматического и скептического образа мышления. Среднее – критический образ мышления, то есть нечто некоторое время рассматривается как проблематичное, пока не достигается полная достоверность.
Первый метод очень вреден для наук, поскольку даёт свободный ход всем ошибкам, если они хоть немного блестят.
Скептицизм тоже не хорош, ведь в познании может быть что-то истинное.
Критический метод – лучший. Он возникает из недоверия к нашему суждению, особенно когда опасаются, что субъективные основания ошибочно принимаются за объективные, а поскольку это часто случается, у этого метода всегда есть основания.
Скептический метод очень полезен для критического: если принята некая истина, ставят себя на место противника и ищут все возможные основания опровергнуть свой тезис, чтобы найти истину. Часто случается, что приходят к противоположному мнению.
Абсолютный и грубый скептицизм говорит: нет достаточного критерия истины. Но чтобы это сказать, он должен иметь меру. Мера должна быть достаточным критерием истины, значит, он всё же имеет истину – он противоречит сам себе.
В математике и физике скептицизм не нужен, поскольку в последней опыт сразу нас поправляет. В математике и так нет из-за очевидности.
Но познание, не являющееся ни математическим, ни эмпирическим, то есть философское, породило скептицизм.
Чистая философия, поскольку она спекулятивна, называется метафизикой. Отсюда пошли дальше и стали даже сомневаться в опыте и математике, используя смехотворные основания.
Скептики выдвигали тезис: Всё настолько неопределённо, что неопределённо, всё ли неопределённо. Это уничтожает сам скептицизм. Они называли это катартикон (очищающее средство).
Первые скептики должны были быть проницательными людьми, ведь обнаружить противоречие разума, выследить основания, которые можно привести против тезиса, – трудно.
О гипотезах.Автор определяет гипотезу как философское мнение, то есть такое, которое используется для объяснения явлений в мире. Мнение, в отличие от гипотезы, не объясняет. По сути, мнение – это принятие за истину суждения об основании истины ради достаточности следствий, или когда что-то считается истинным потому, что из данных следствий можно вывести достаточное основание, или принятие предпосылки за основание. Если что-то достоверно опосредованно, то оно истинно как следствие; если же что-то принимается за истину как основание, то это гипотеза.
Я принимаю нечто без доказательства; если оно является достаточным основанием для выведения следствий, то оно принимается за истинное именно из-за этих следствий, а не потому, что само является следствием истинного познания. Если следствие истинно, то основание не всегда истинно, поскольку к одному и тому же следствию может быть несколько оснований. Всякое принятие гипотезы основывается на том, что она служит достаточным основанием для объяснения других знаний как следствий. Таким образом, мы здесь заключаем от истинности следствия к истинности основания.
Ранее было замечено, что хотя это и критерий истины, но недостаточный. Такой вывод абсолютно верен только в том случае, если все возможные следствия истинны, ибо если в основании есть что-то ложное, то из него должно быть возможно вывести и ложное следствие. Однако поскольку мы никогда не можем определить все возможные следствия, то и этот вывод не дает полной уверенности.
Таким образом, мы видим, что гипотезы всегда остаются гипотезами, ибо я могу упустить какой-то малый обстоятельство, которое показывает опыт и которое, возможно, не объяснимо из гипотезы, и потому мы никогда не можем достичь полной достоверности, хотя и существует основание вероятности. Но если все встречавшиеся мне следствия объяснимы из гипотезы, то вероятность гипотезы возрастает, и нет причины, почему я не должен предположить, что все возможные следствия окажутся объяснимыми.
Отсюда я заключаю: все возможные следствия истинны, следовательно, они принимаются за истинные не аподиктически, а через индукцию. Однако в гипотезе должно быть нечто аподиктическое, а именно:
a) Возможность предположения. Например, если для объяснения землетрясений и огнедышащих гор мы принимаем подземный огонь, то должно быть возможным, чтобы такой огонь существовал, или, по крайней мере, чтобы существовало нечто горячее. Но если кто-то скажет, что Земля – это животное, внутренние соки которого производят тепло, то это невозможно. Реальности я могу выдумать, но не возможности – они должны быть достоверны. Лучший пробный камень возможности – опыт.
b) Последовательность. Из принятого основания следствие должно вытекать правильно, иначе это химера.
c) Требуется единство, то есть должна быть только одна гипотеза. Если мне приходится принимать множество гипотез, то их вероятность сильно снижается. Ибо я заключаю: чем больше следствий вытекает из гипотезы, тем она вероятнее; чем меньше – тем менее вероятна. Например, гипотеза Тихо Браге, что Солнце, планеты и неподвижные звезды движутся вокруг Земли, не объясняла многих явлений, и ему приходилось принимать все новые гипотезы. Уже отсюда можно догадаться, что это не истинное основание.
Коперниканская система, напротив, – это гипотеза, из которой объясняется все, что до сих пор наблюдалось. Здесь не нужны гипотезы субсидиарные – те, что принимаются для поддержки уже принятой гипотезы.
В метафизике гипотезы – нечто нелепое. Однако нигде их не больше, чем в натурфилософии. Они также встречаются у комментаторов классических авторов.
Об убеждении и внушении.Автор теперь говорит об убеждении (Überredung). Мы уже упоминали об этом выше. Убеждение – это принятие чего-то за истинное по недостаточным основаниям, о которых неизвестно, объективны они или субъективны. Мы верим во что-то как в достоверное, но считаем это лишь убеждением, потому что не можем отчитаться в основаниях. Многие познания начинаются с того, что мы осознаем их лишь как убеждение.
За убеждением следует размышление (Überlegung), то есть мы определяем, к какой познавательной способности относится данное познание. Затем наступает исследование (Untersuchung), где мы проверяем, достаточны или недостаточны основания в отношении объекта. У многих остается лишь убеждение, у некоторых доходит до размышления, у немногих – до исследования.
Убеждения часто предшествуют уверенности, но у тех, кто знает, что требуется для достоверности, они редко смешиваются с уверенностью и размышлением. Того, кого часто обманывали, труднее всего убедить. Легковерие указывает на поверхностность мышления. Поэтому не следует осуждать того, кто не так быстро соглашается с чем-то, как другие.
О науках.Выше уже говорилось о науках (Wissenschaften). Совокупность знаний как агрегат – это обычное познание, а совокупность знаний как система – наука. Каждая наука должна делиться a priori согласно принципу; я должен знать, сколько частей принадлежит науке, еще до ее рассмотрения. Система основывается на идее целого. В познании как агрегате части предшествуют, в системе же – идея целого, что составляет наибольшую трудность. Можно с полным правом сказать, что метафизика – это рапсодия.
Об искусстве.Знание и умение – разные совершенства. Я могу что-то уметь сразу, как только узнаю, но кое-чего не могу, даже если знаю. Для этого нужна практика – и это искусство. Автор не прав, понимая под наукой только рациональное познание: исторические познания также могут быть научными.
О достоверности.Она бывает эмпирической или аподиктической. Опыт – либо наш собственный, либо других, полученный через свидетельства. Эмпирическая достоверность – это достоверность через собственный опыт или через свидетельства других. Последнее – историческая достоверность, и часто свидетельству других можно верить больше, чем собственному опыту.









