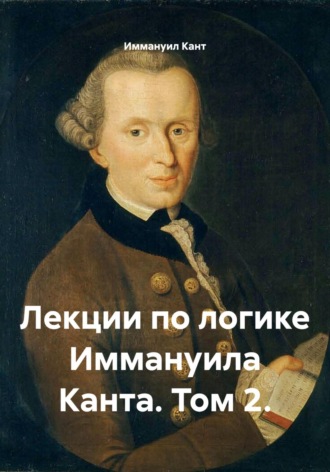
Полная версия
Лекции по логике Иммануила Канта. Том 2.
Автор говорит о математической достоверности первого и второго разряда, но он не прав: вся математическая достоверность однородна. Рациональная достоверность всегда аподиктична, то есть в ней присутствует абсолютная необходимость. Интуитивная достоверность (через конструирование понятий) – математическая; дискурсивная – философская.
Автор употребляет выражение произвольные истины (willkürliche Wahrheiten), но лучше сказать произвольные положения (positiones) – произвольные правила употребления. Это не более чем императив, предписание разума, а не само познание. Автор определяет их как истины, которые истинны по нашей воле, и относит к ним гипотезы: они принимаются произвольно, но не как истины, а их истинность определяется через необходимые следствия.
О доказательствах, именно аподиктических.Они делятся на:
– акроаматические (дискурсивные, выражаемые словами) и
– математические (интуитивные, из конструирования понятий).
В доказательстве есть:
1) Доказываемое положение,
2) Основание доказательства,
3) Последовательность – как положение вытекает из основания.
Можно знать основание доказательства, не зная его формы или последовательности. Если в споре приводят только основание доказательства (materiam probationis), то это называется спорить через средние термины (per terminos medios disputiren).
По определению автора, недоказуемые (unerweißlich) познания – те, что достоверны и без доказательства. Однако в немецком это слово означает нечто, что нуждается в доказательстве, но не имеет его. Непосредственно достоверное положение недоказуемо (indemonstrabel). Все наши познания должны начинаться с непосредственно достоверных положений. Если даже многое достоверно опосредованно (через доказательство), то все равно должно быть нечто недоказуемое или непосредственно достоверное.
Доказательство бывает:
– Прямым (оно же положительное), доказывающим истинность положения, или
– Апагогическим (отрицательным), опровергающим противоположное или показывающим его ложность.
Апагогические доказательства убедительны в математике, но в философии от них охотно отказываются, ибо положительные не только показывают вещь, но и источники истины. Апагогическое доказательство лишь показывает противоположное, и я заключаю от его ложности к истинности моего положения. Чтобы апагогическое доказательство было valid, положения должны противоречить друг другу диаметрально (contradictorie), а не контрарно (contrarie), иначе оба могут быть ложными.
Доказательство, служащее основанием математической достоверности, называется демонстрацией; основание философской достоверности – акроаматическим доказательством.
Автор говорит об источниках познания и относит к ним разумное познание и веру. Но вера относится к опыту, ибо я верю из-за свидетельства других, а это я должен испытать.
О исторической вере.Автор относит веру лишь к свидетельству, но это неверно. Мы различаем два выражения: «верить чему-то» и «верить кому-то». В первом случае вера противопоставляется знанию, во втором – предполагается, что это сказал другой. «Верить чему-то» относится к познанию и основанию признания чего-то истинным, даже если это исходит из разума: когда основания для признания истинным недостаточны для логического употребления (то есть для чистого рассудка), но достаточны для практического (то есть для применения), это и есть вера. Теоретической веры разума не существует, ибо в спекулятивном мышлении разум дает нам либо знание, либо ничего, а также мнение, но не убеждение. Однако практическая вера разума существует – логические основания могут быть недостаточными, но разум в отношении наших интересов может иметь основания принимать что-то за истинное.
Суждения разума сами по себе не являются предметом веры, но в математике это возможно, поскольку ошибки в применении не так легко скрыть. Если мы верим чему-то потому, что верим другому, это историческая вера, или когда что-то признается истинным лишь ради свидетельства. Существует вполне обоснованная вера разума, которая, однако, никогда не может возвыситься до знания, и в практическом отношении она может быть столь же сильным признанием истины, как и величайшая достоверность, только ей недостает логических условий. Историческая вера может быть действительным знанием и не должна отличаться от него, тогда как вера разума должна быть отличена.
Если мы противопоставляем веру знанию, то должны понимать ее как логически недостаточное, но практически достаточное признание истины. Для исторической веры требуется свидетель, которому можно верить исторически, если он обладает безошибочным разумом или рассказывает о своем собственном опыте. В философском познании мы не можем считать истинным ничего, кроме свидетельства Бога. Все цитаты имеют историческую веру, и привлечение свидетелей в отношении эмпирического совершенно необходимо, поскольку мы не можем все испытать сами.
Для достоверности свидетеля требуется:
1. Компетентность (способность сказать правду, authenticitas),
2. Правдивость (желание сказать правду, integritas).
Он должен быть компетентным, то есть иметь возможность провести опыт, и должен уметь его изложить так, чтобы его поняли. Проводить опыты не так просто, как кажется. Что касается правдивости свидетеля, то на простого человека полагаться нельзя – он слишком груб, чтобы ценить истину. Древние времена были таковы, и почти все древние писатели не слишком точны в истине, например, Геродот, Ливий. В этом отношении новые времена имеют преимущество перед древними. Мы честнее в своих мыслях и вынуждены признавать истину, иначе потеряем доброе имя. Эта перемена произошла в конце прошлого века, и точность свидетельства особенно проявилась в экспериментальной физике, что распространилось и на историю, чему способствовали книгопечатание и газеты, помогающие быстро опровергать ложь.
При оценке правдивости нужно исследовать, имел ли свидетель интерес отступить от истины, но это так многообразно, что едва ли можно судить: то, что мы вовсе не считаем интересом, для другого может им быть. Свидетели делятся на слышавших и видевших – последние свидетельствуют о своем опыте, первые – о свидетельствах других. В греческих мифах и преданиях нет надлежащих свидетелей. Там верят не из-за авторитета свидетеля, а из-за их множества, тогда как здесь множество подчиненных свидетелей.
Если неверие – это порицание, то вера должна быть моральной. В латинском языке это невозможно передать. Вера бывает либо теоретической, либо практической, то есть моральной. Неверующим называют того, у кого нет моральной веры, то есть кто не имеет морального интереса, и это можно требовать от каждого. Такое неверие – порицание, особенно если человек не верит в добродетель, и оно вредно, поскольку уничтожает всякое намерение к добродетели, ибо он считает, что ее нет.
О согласовании разума и опыта.Если из опыта посредством разума что-то выводится, нельзя сказать, что они согласуются, но опыт используется разумом. Чтобы опытное основание стало познанием, требуется разум. Опыт – достаточное основание, а разум пользуется им для познания. Разум – это способность, благодаря которой мы можем использовать опыт как основание для познания, но здесь разум и опыт не согласуются, а одно познавательное способность дополняет другое до достаточности (complementum ad sufficientiam). Если познание из опыта и разума недостаточно и одно дополняет другое, тогда разум и опыт согласуются. Так бывает в гипотезах.
О практическом познании.Познание называется практическим в противоположность теоретическому, а также спекулятивному. Если суждение есть императив, оно практическое. «Долженствование» здесь означает свободное действие, которое хорошо с определенной целью, и суждение, выражающее такое действие, есть императив. Этот императив практичен в противоположность теоретическому, ибо последний говорит не о том, что должно произойти, а о том, что произошло. Практическое познание также противопоставляется спекулятивному, и здесь оно может быть теоретическим, если из него можно вывести императивы, ибо тогда познание объективно практично, то есть содержит основание для возможных императивов.
Примечание. Спекулятивное всегда теоретично, но не наоборот, ибо теоретическое может быть таковым в ином отношении. Спекулятивное познание – это такое, из которого нельзя вывести правила поведения или которое не служит основанием для возможных императивов. Например, в теологии чисто спекулятивны познания, не влияющие на образ жизни, например, присутствует ли Бог в пространстве или вездесущность есть лишь воздействие на все творения без определения через пространство.
Можно также определить так: познание теоретично, если оно не указывает, что должно произойти, а содержит познание объекта, как он есть. Употребление познания бывает либо теоретическим, либо практическим. Например, мораль – практическое познание, но ее употребление может быть спекулятивным, и в ожидании практического применения наши познания обретают ценность. Вся спекуляция в конечном счете устремлена к практическому. (Спекуляция полезна и сама по себе, ибо упражняет разум для практических исследований.)
Эта ценность может быть лишь опосредованной или же непосредственной – тогда это достоинство. Мы, собственно, не знаем ничего, кроме человека, что имело бы достоинство, ибо он не относится к средствам для других целей, как все прочие вещи. Все знания и приобретения человека имеют лишь опосредованную ценность и должны соотноситься с непосредственной. Если воля хорошо использует приобретенные знания, она ценнее всякого познания. Достоинство человека основывается на моральности, и это мы называем κατ’ ἐξοχήν (по преимуществу) практическим. Часть философии, трактующая мораль, называется практической философией, хотя и в других частях есть нечто практическое.
Автор также выделяет особый раздел о употреблении нашего рассудка и разума в противоположность спекулятивному употреблению. Это вовсе не относится к логике, которая рассматривает лишь форму мышления и может иметь только суждения, основанные на априорных принципах. Но поскольку все практическое имеет в виду нашу волю и различные цели, которые мы должны познавать через наблюдения, то практическое отличается от спекулятивного по содержанию. Это видно из самого рассуждения: автор говорит об удовольствии, желании и т. д., что сюда не относится.
Далее здесь есть деление познаний на мертвые (не движущие волю) и живые (движущие). Оно правильно, но выходит за границы логики. Поэтому мы опускаем этот раздел – он относится к психологии.
О понятиях.До сих пор мы говорили о познании, рассматривая его различные виды; теперь автор разделяет познания на их элементы, что, собственно, следовало бы сделать раньше.
1) Первое совершенство познания, по словам автора, – когда познание становится представлением и понятием.
2) Когда понятия соединяются и таким образом возникают суждения.
3) Когда суждения соединяются и возникают умозаключения.
Древние говорили: Quot sunt mentis operationes? Tres: apprehensio simplex, judicium, et ratiocinium («Сколько существует операций ума? Три: простое восприятие, суждение и рассуждение»).
Чтобы объяснить понятие, отметим следующее:
1) Repraesentatio (представление) – это первое и самое общее и не может быть определено.
2) Представление с сознанием – это perceptio (восприятие).
3) Представление, поскольку оно рассматривается как относящееся к объекту, – это cognitio (познание) или восприятие, поскольку оно объективно. Таким образом, я должен также осознавать объект.
У нас есть множество представлений, которые не относятся ни к какому объекту, например, все внутренние ощущения. Они относятся к субъекту. Если кто-то говорит со мной, у меня есть представление, относящееся к объекту, – значит, познание. Если он кричит так громко, что у меня болят уши, – это ощущение, и я чувствую своё состояние.
Познание бывает либо intuitus (интуитивным), либо conceptus (концептуальным).
– Intuitus – когда у меня есть только единичные представления.
– Conceptus – когда у меня есть представления, общие для многих, или repraesentatio communis (общее представление).
Conceptus est repraesentatio communis (понятие – это общее представление), потому что понятие относится к признаку объекта и, таким образом, представляет объект опосредованно через признак, а этот признак может быть общим для многих вещей.
Intuitus – это repraesentatio singularis (единичное представление), поскольку это всегда единичный объект чувств.
Мы всегда начинаем с созерцаний. Каждое понятие бывает:
1) Empiricus (эмпирическим) – если оно возникло из чувств и получило всеобщность лишь благодаря рассудку или появилось через сравнение объектов опыта.
2) Purus (чистым) – если оно не возникло через чувства.
При таком разделении важно происхождение, поэтому оно относится не к логике, а к метафизике. У нас много эмпирических понятий, например, цвета, ощущения и т. д. Чистым было бы такое, которое возникает из рассудка независимо от опыта.
Они, в свою очередь, делятся на:
– те, объекты которых могут быть даны в опыте (например, субстанции, причины, действия и т. д.),
– и те, объекты которых не могут быть даны ни в каком опыте – это понятие чистого разума (conceptus purus est notio).
Notio (ноция) – это нечто большее, чем conceptus, но в немецком языке нет соответствующего термина.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









