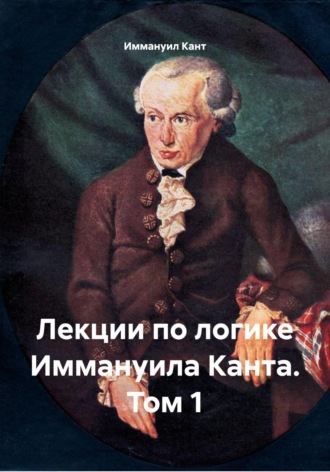
Полная версия
Вообще верно, что так называемые апагогические доказательства (demonstrationes ad absurdum contrarium), когда для подтверждения своего мнения ясно показывают, насколько смешно и нелепо было бы принять противоположное, очень легки, но они не дают достаточного света в отношении источников истины.
Таким образом, связь познания с его основаниями – это самое верное и лучшее свидетельство истинности познания.
§ 104
Исторические познания отличаются от рациональных по форме разумности познания.
Познание исторично, если оно не соответствует форме разума, и рационально, если соответствует, независимо от объекта. Однако здесь мы должны учитывать и объект, если хотим установить различие между догматическим и историческим познанием.
1. Догматическое познание – это всеобщее познание, возникающее а priori из разума.
2. Историческое же познание не всегда всеобщее и основывается на свидетельствах о произошедших событиях, на свидетельствах других, то есть возникает а posteriori.
Вся мораль догматична: в ней учат, порицают и указывают не на то, что обычно презирается людьми, а на то, что должно порицаться.
Физика же не догматична. Её частью была бы чистая физика, где мы выводим свойства тел из всеобщих правил и понятий.
Тяжесть тел относится уже к опыту и является историческим познанием а posteriori.
Все догматы должны по праву основываться прежде всего на разуме, но они также могут часто быть историческими.
Объектом догматов являются не отдельные вещи, а всеобщие свойства и состояния вещей. Объектом же истории являются отдельные вещи.
Хотя догматы имеют всеобщие свойства вещей своим предметом, они часто могут быть познаны исторически, хотя по своей природе рациональны.
Все догматы по своей природе объективно рациональны, хотя субъективно могут быть историческими.
Теперь мы должны также поговорить о системах. Автор слишком ограничивает значение этого слова, применяя его исключительно к догматической истине.
Лучшее определение системы будет следующим:
Система – это множество или совокупность многих простых и взаимосвязанных познаний и истин, которые вместе составляют целое. Всякая система должна обладать единством, но это единство может основываться либо на координации (как в исторических познаниях), либо на подчинении.
Система бывает:
A. Исторической
B. Рациональной
Форма системы в большинстве случаев считается произвольной.
Люди обладают разным умом: тот, кто склонен рассматривать части, утончён, а тот, кто рассматривает целое, велик.
Настоящую систему должен строить только один человек; она не может быть сборной работой, к которой один добавляет одно, другой – другое.
Эта способность формировать систему столь исключительна, потому что она редка и приносит огромную пользу.
В каком-то смысле систему можно иметь всегда, ведь каждое наше познание должно иметь логическое место.
Первые системы, естественно, удивительно несовершенны. Постепенно они становятся больше и полнее.
§ 105
Мы уже установили различие между логическими и эстетическими истинами.
Многое может быть логически истинным, не будучи при этом эстетически истинным, и, наоборот, многое может быть эстетически истинным, не обладая логической истиной.
Сюда относятся все вымыслы.
Сюда относятся все эстетические истины, которые истинны по правилам вкуса.
В этих познаниях действительно господствует своего рода мода. Сюда относятся, например, пословицы, которые действительно подчинены своего рода моде, хотя они и не всегда являются суждениями, соответствующими вкусу.
Эстетически истинно всё то, что соответствует правилам хорошего вкуса и согласуется с законами явления.
Поэтов, которые хотят писать лишь эстетически истинное, не проверяют на весах логики – этим им наносят большую несправедливость. Они – поэты, а не моралисты и логики, и всегда сохраняют свою ценность.
Чтобы быть эстетически истинным, часто может допускаться некоторая степень неправды, которая, однако, не должна полностью противоречить истине. Например, когда один философ воскликнул: «Друзья мои, друзей не существует!» – это эстетически истинно и является хорошей мыслью, потому что истинные друзья очень редки, а полное согласие душ – вещь исключительная.
§ 109.
Теперь мы переходим к очень важному учению во всей логике – к учению о происхождении заблуждения. Возникает ли заблуждение из-за недостатка разума?
Ответ: Нет, из недостатка разума проистекает лишь невежество. Но невежество очень отличается от заблуждения.
Тот, кто знает мало, может тем не менее судить об этом немногом совершенно правильно.
Другой вопрос:
Не возникает ли заблуждение также из-за недостатка познания, соединённого со стремлением судить?
Ответ: Тот, кто точно знает, что он невежествен, конечно, не осмелится судить о том, чего не понимает.
Но допустим, он не чувствует своей неспособности и думает, что знает много, а потому хочет судить обо многом – тогда из этого всё равно не проистечёт ничего, он лишь напрасно потратит усилия на суждение.
Но почему разуму так трудно понять, как это происходит? Почему разум в своих суждениях отклоняется от своих собственных законов?
Никакая сила не может сама противоречить своим собственным законам. Например, если тело предоставлено своей тяжести, оно падает вниз по законам тяготения, и можно действительно рассчитать скорость его падения.
Таким образом, если бы в наших суждениях, совершаемых разумом, не действовала никакая другая сила, если бы никакая сила не вмешивалась, мы бы действительно никогда не ошибались, а лишь часто оставались бы невежественными.
Ни одно заблуждение, следовательно, не возникает собственно из разума, но для возникновения заблуждения в разуме должна одновременно действовать другая сила. Все силы природы отклоняются от своих законов только тогда, когда под данными законами смешиваются чуждые законы.
Если бы у нас был только разум, мы бы, конечно, знали мало, но всё это немногое судили бы истинно.
Если бы, далее, у нас была совершенно чистая воля, то, даже если бы мы делали совсем мало добра, мы всё равно никогда не могли бы грешить.
Отклонение от правил чистой воли составляет моральное зло, и оно возникает только тогда и постольку, поскольку с чистыми законами воли смешиваются действия других сил. Например: склонности и аффекты. Точно так же, когда чуждые силы смешиваются с правильными законами разума, возникает смешанное действие, и заблуждение рождается из противоборства наших суждений с законами разума и рассудка.
Всякое заблуждение есть феномен, загадка в отношении понятия о его возможности.
Это как бы совершенно необычное, противоестественное явление, противоречащее законам разума.
Всё, что противоречит законам природы, не может быть для нас предметом исследования, но таковым может быть то, что случается редко и противоречит законам природы.
Заблуждение случается довольно часто, но оно противоречит законам разума и рассудка, а потому достойно быть предметом нашего исследования.
Заблуждение происходит исключительно из рассудка и разума, потому что в них вмешиваются чуждые силы, но никогда – из чувств и воображения.
Поскольку наш рассудок и разум судят объективно, существуют также и другие, субъективные основания наших суждений, которые, однако, не согласуются с рассудком и разумом.
Всякое заблуждение возникает, когда мы принимаем субъективные основания наших суждений за объективные.
Вся история о привидениях основывается не на суждении рассудка, а на воображении, которое при наблюдении объекта присоединяет к нему другие, похожие объекты, хотя они и не существуют.
Рассудок соединяет понятия с вещью согласно своим законам и самой вещи, объекту.
Воображение же привносит другие образы, которые относятся не к объекту, а к субъекту.
Из этого смешения воображения с рассудком возникают такие действия, которые не вполне согласуются с правилами рассудка и разума.
Многие заблуждения происходят от привычки, другие – просто потому, что в субъекте произошло изменение. Например, когда мы видим пятно на стене.
Многие заблуждения возникают потому, что однажды воспринятые образы постоянно обновляются в душе, и потому всё похожее принимается за саму вещь. Например, если юноша был строго наказан учителем и потому ненавидит его, а потом видит человека, похожего на учителя, он часто склонен ненавидеть его уже только за это сходство.
Часто можно отвергнуть что-то рассудком, но под действием другой силы принять это же самое – всё это проистекает только из смешения сил, которые, даже если и не противоречат друг другу, всё же различны по своей природе.
Мы познаём величину вещей не иначе, как через суждение об удалённости. Например, различие между мухой и слоном.
Мы замечаем муху вблизи, слона – тоже, но и на расстоянии, и потому заключаем, что последний должен быть больше первого.
Но воображение может сильно изменить эти суждения и вызвать в нашей душе другие впечатления, другие представления о вещи, чем те, которые мы должны были бы составить, если бы видели её истинные свойства.
Если бы у человека отнять воображение и чувственный ум, суждение рассудка всегда было бы истинным.
Разум, смешанный с другими силами, ошибается, и эту ошибку мы должны вновь постичь самим разумом. Отсюда ясно, что мы должны познавать и понимать ошибки той же самой силой, которую хотим исправить.
Ни одно заблуждение не может возникнуть только из рассудка и разума, ибо никакая сила не может действовать против своих собственных законов.
§ 110.
То, что невежество само по себе ни в малейшей степени не может быть источником заблуждения, уже было показано в предыдущем параграфе.
§ 111.
Заблуждение бывает либо избежимым, либо неизбежимым.
Если вообще не судить, то, конечно, можно избежать всех заблуждений; кто не судит, тот и не ошибается. Также заблуждение можно предотвратить невежеством. Но это невежество заключается не в незнании недостатка, а в незнании намерения, и последнее действительно является своего рода мудрым невежеством.
Многие спекуляции – не что иное, как путь к величайшим заблуждениям. Но многие заблуждения можно избежать, если иметь намерение ничего не утверждать и ничего не решать. Однако многие вещи таковы, что они не могут оставаться нерешёнными. Например, если судья должен разрешить спор, то, даже если он в этих случаях ошибается, заблуждение по отношению к нему неизбежно.
Можно что-то предполагать, и притом с основанием, не впадая в заблуждение, но если ту же самую лишь предположительную и несовершенную догадку выдать за несомненную истину, то часто ошибаются.
Таким образом, склонность к решительным суждениям – вернейший путь к заблуждению, а также определённая догматическая гордыня (привычная для некоторых так называемых философов). Но если мы ещё не доверяем признакам истины, которые до сих пор познали, и потому не выносим суждения, а часто воздерживаемся от него, то действительно избегаем многих заблуждений.
§ 113.
Познание бывает:
1. Очевидно ложным
или
2. Скрыто ложным.
Это деление ложного познания относительно.
У нас есть своего рода средний разум, который, будучи извлечён из разума всех людей, является как бы мерилом, то есть идеалом.
Если взять заблуждение, которое может ужиться с этой средней степенью разума, то оно ещё терпимо; но если оно уже не может с ней ужиться, то его больше нельзя терпеть, и тогда это – нелепость.
Нелепость предполагает не только ложное познание, но и то, что обычный разум (le sens commun) может распознать его как ложное.
Всякое скрыто ложное познание можно сделать явно ложным, и тогда познание доводят до абсурда, так что тот, кто до сих пор придерживался этого познания, хотя и не является абсолютно абсурдным, но стал бы явно абсурдным и действовал бы вопреки всякому разуму, если бы после всех доводов, приведённых ему против ложности его познания, продолжал считать его истинным.
Глупо, когда учёные называют друг друга нелепыми, а потом хотят спорить о том, истинно или ложно то, что они написали. Ведь, называя друг друга нелепыми, они тем самым сразу лишают друг друга всякого истинного познания. И если я предполагаю, что кто-то вообще не обладает и не способен обладать познанием, как же он может понять мои доводы против ложности его познания или даже хвалиться истинным познанием и верить, что обладает им? Но как же тогда я могу спорить?
В следующем параграфе автор рассуждает о необходимом, случайном и случайных истинах, к чему нам нечего добавить.
Пятый раздел. О ясности ученого познания .§ 115.
Все основания познания бывают либо внутренними, либо внешними. Первые суть определения в самой вещи, благодаря которым она может быть познана даже без сравнения с другими предметами. Посредством же последних я получаю знание о вещи лишь постольку, поскольку сравниваю её с другими предметами, и эти внешние основания познания называются приметами или признаками.
Внутренние же основания познания даже неудобно называть приметами или признаками вещи.
При сравнении одной вещи с другой мы можем представлять себе всегда двоякое: либо тождество (identitas), либо различие (diversitas). Например, приметами тождества у людей и животных являются то, что оба имеют тленный тело. Приметами же различия – что первые одарены разумной душой, а вторые вовсе не имеют разума.
В большинстве случаев используются приметы тождества, но во многих также и приметы различия.
Все роды (genera) и виды (species), например, возникают из примет тождества, а не различия.
Если же, скажем, требуется отличить металлы друг от друга, то, напротив, необходимы notae diversitatis – например, что золото тяжелее всех металлов. Ибо это есть главный отличительный признак золота от серебра, меди и прочих металлов.
Таким образом, примета – не только ratio disjunctionis (основание разделения), как некоторые определяли, но также и ratio identitatis (основание тождества).
Примета вообще называется нотой (nota).
Все приметы вообще бывают либо:
1. Внутренними,
2. Внешними.
(Sunt vel externae, vel internae omnes Notae.)
1. Приметы, которые я познаю в вещи, внутренние, если рассматриваю вещь саму по себе.
2. Приметы, которые я имею о вещи, внешние, если сравниваю её с другими предметами, и такие приметы называются характеристиками, отличительными основаниями, признаками в собственном смысле.
Таким образом, употребление всех примет может быть:
1. Внутренним,
2. Внешним.
Если я познаю внутренние приметы, которые, взятые вместе, составляют полное понятие, то эти приметы полны и достаточны для познания всего, что вообще можно познать в вещи абсолютно.
Абсолютные познания о вещах, однако, гораздо труднее, чем познания, приобретаемые через сравнения. Ибо последние гораздо легче и для нас естественнее, так как уже в нашей природе заложено, что мы в сравнении с другими гораздо легче замечаем сходство или различие в объектах и способны их уловить.
Так, например, безобразие в сравнении с красотой бросается в глаза, а истинная красота особенно заметна среди множества безобразных лиц. И сам человек, когда судит о себе, чаще всего спрашивает не насколько он хорош и чего ему недостает, а скорее – не лучше ли он других или даже превосходит ли их.
Отсюда и происходит, что господин фон Вольф и даже наш автор считают приметы и признаки за одно и то же.
Вначале чаще всего бывает так, что большинство вещей если и не считаются совсем одинаковыми, то различаются лишь очень мало. Со временем, однако, постепенно обнаруживаются различия, и по мере того, как мы всё больше внимания уделяем вещам, примет становится всё больше и больше.
Но для такого постепенного отыскания примет вещи требуется также большая тонкость ума – точно так же, как и для того, чтобы среди вещей, где, казалось бы, существуют величайшие различия (или они действительно есть), всё же уловить некоторое сходство, тождество и согласие.
§ 116
В этом параграфе автор говорит о опосредованных и непосредственных приметах.
Если вещь может быть познана через определённую примету без посредства другой, отличной от неё приметы, то такая примета называется непосредственной.
Опосредованная же примета, напротив, есть примета приметы. Например:
– Тленность есть примета человека, но непосредственная, ибо тленность есть примета смертного существа, то есть тела, а человек смертен и имеет тело.
Таким образом, существуют степени отдалённых примет, а значит, и степени опосредованных примет.
Первая степень – когда вещь познаётся лишь через промежуточную ноту (notam intermediam).
Но среди всех примет, где одна служит приметой другой, всегда встречается отношение подчинения (subordinatio).
Существует также отношение соподчинения (coordinatio), и оно имеет место у непосредственных примет, где каждая отдельная примета есть новое основание познания вещи.
Через опыт мы можем замечать и познавать только соподчинённые (то есть расположенные рядом) приметы вещи.
Разум же один способен поставлять нам подчинённые приметы вещи, то есть представлять нам ряды примет.
При подчинении примет я имею в виду лишь одну-единственную непосредственную примету, а остальные ноты суть приметы примет.
При соподчинении нот (coordinatio notarum) все приметы непосредственны.
В ряду подчинённых (то есть подчинённых одна другой) примет всегда есть первое – то есть понятия ограничены.
В соподчинении же нет ограничения.
Существует бесчисленное множество примет, которые непосредственно принадлежат вещи, и наш разум не в состоянии охватить все свойства и точно их определить.
При подчинении непосредственная примета называется nota infima (низшая нота), а последняя примета всех примет – nota summa (высшая нота).
Через подчинение примет я получаю глубокое, то есть интенсивно большое познание.
Через соподчинение примет (coordinatio notarum) приобретается экстенсивно большое, то есть разработанное по основанию и обширное познание.
Ряд соподчинённых примет подобен линии без границ, бесконечной, ибо всегда возможно и даже вероятно, что потомки со временем откроют ещё больше непосредственных примет вещи.
Ряд же подчинённых примет ограничен и имеет свои пределы, причём часто очень скоро, когда в нём уже нельзя указать примету приметы.
Метафизика есть та наука, посредством которой мы отыскиваем terminum a priori подчинённых примет. Через неё мы получаем простые и неразложимые понятия.
Излишняя красота также вредит и даже возбуждает подозрение. Прекрасная простота чаще встречается в природе.
Величайшее искусство состоит в том, чтобы скрыть применённое где-либо искусство так, чтобы оно вовсе не было заметно, а казалось чистой природой.
Глубина мысли в некотором роде противоположна красоте: чем больше в познании абстрагируются, тем оно суше.
Вообще чисто абстрактные познания не могут быть вполне уяснены, если я не представлю конкретный случай и не усмотрю его.
Сухость же часто переходит в смешное, и для этого подчас требуется искусство – например, в остротах в обществе, что обычно называют простотой.
При всяком описании стремятся скорее понять вещь, чем уяснить её.
При всяком же объяснении, напротив, стремятся скорее уяснить вещь, чем понять её.
Множество соподчинённых примет увеличивает опыт.
Экстенсивная величина познания подобна объёму, интенсивная же – плотности его.
В некоторых случаях экстенсивная величина познания полезнее, в других – интенсивная.
В морали, например, более необходима интенсивная величина познания, а в физике и медицине очень часто незаменима экстенсивная величина.
Сухие познания вовсе не соответствуют чувственности, а значит, и красоте.
Основательные, глубокие, солидные познания могут и должны быть безупречно сухими.
Эту сухость возмещают тогда, когда рассматривают абстрактное в конкретном случае.
(Анализ идёт восходяще, синтез – нисходяще.)
§ 117
Через отрицательные приметы вещи я представляю себе нечто, что в вещи не встречается в действительности.
Через положительные приметы я представляю себе то, что в вещи действительно есть.
Но отрицательные приметы возможны лишь потому, что сначала представляют себе противоположные им положительные приметы.
Например, я не могу знать, что такое тьма, если прежде не имею ясного представления о свете.
Отрицательные приметы служат лишь для того, чтобы избегать ошибок.
Например: животные не имеют разумной души.
Положительные же приметы служат для того, чтобы получить обширное, хоть и не разработанное познание о вещи.
Например: Бог всеведущ и т. д.
Золото не теряет своей массы и тяжести в огне, оно ковко.
Помимо невежества, в разуме есть ещё более опасное зло – заблуждение.
Положительными приметами мы избегаем невежества, отрицательными – заблуждения.
В этом и состоит цель обоих видов примет.
Через отрицательные приметы мы, правда, не получаем нового познания, но тем не менее они весьма необходимы и важны, ибо предохраняют нас от ошибочных познаний.
Чем меньше средств у нас под рукой для достижения истинных познаний, тем больше отрицательных примет нам потребуется, чтобы не заблуждаться в познании вещи.
Так, например, ни в одной науке нет большего количества отрицательных примет, чем в рациональном богословии (theologia naturalis).
Ибо у нас вовсе нет под рукой средств для обширных познаний в этой области.
Так, мы постоянно склонны заблуждаться в понятии, идее и представлении о Божественном существе и вообще о Боге, потому что охотно сравниваем Его с вещами, которые воспринимаем на земле, хотя они вовсе не могут быть мерилом Бога.
Бог не может быть познан нами через чувства, и потому всё наше познание о Нём неизбежно будет крайне ограниченным.
Если поэтому, рассматривая Бога в естественной теологии, мы отнимем все отрицательные приметы, через которые говорим о Нём, то у нас не останется ничего, кроме идеи всеобъемлющего и всесовершеннейшего существа.
Отрицательные суждения часто действительно глупы, потому что отрицаемое часто уже само по себе невозможно.
Например: человек имеет разум, следовательно, он не камень.
Это истина, несомненная истина, в которой никто не усомнится.
Но поскольку и так очевидно, что никто не станет всерьёз считать человека камнем, то это суждение бесполезно.
§ 118
Всякий признак есть основание познания, которое оценивается по своим следствиям. Поскольку следствия имеют ценность в отношении разума или нашего совершенства и счастья, то и признаки как основания познания также будут иметь ценность.
Из первых следствий выводится логическая ценность признаков, а из других следствий – практическая ценность признаков.
Если из одного основания можно вывести множество следствий, то оно плодотворно или имеет экстенсивную величину. Например, от солнца проистекает множество следствий в отношении земли. Так, правила морали весьма плодотворны, поскольку оказывают влияние на нашу жизнь, то есть на наш образ действий, который очень велик.
Признак экстенсивно велик, если я могу познать множество следствий от одной вещи. Интенсивно же велик признак тогда, когда я могу познать не столько множество, сколько великие и важные следствия из одной вещи. Первый признак называется плодотворным, второй – точным.
Пустые спекуляции имеют логическую ценность. Они часто обладают множеством следствий в отношении разума, хотя, конечно, не оказывают влияния на счастье людей. Например, что луна обитаема и т. д. Это положение не влияет на волю, на государство и т. д. Никто не становится совершеннее, счастливее или лучше в отношении своего внешнего понимания благодаря этому познанию, хотя в отношении разума он становится несколько совершеннее.
Другие познания эстетически точны, потому что они возбуждают наш вкус и доставляют удовольствие. Например, поэзия радует, потому что соответствует нашему вкусу. Однако вся важность познания состоит лишь в том, когда оно рассматривается само по себе, без сравнения с другими познаниями.
§ 119
Признаки либо достаточны для наших целей, и тогда они называются сравнительно достаточными (notae comparative sufficientes), либо служат для того, чтобы отличить одну вещь от всех других, то есть для всех логических целей, и тогда они называются абсолютно достаточными признаками (notae absolute sufficientes).
Все опытные данные имеют лишь относительную достаточность. Например, если я внимательно рассматриваю грушевое дерево, то могу легко отличить его листья от листьев всех других деревьев в лесу. Это познание является достаточным в соотношении с другими познаниями.









