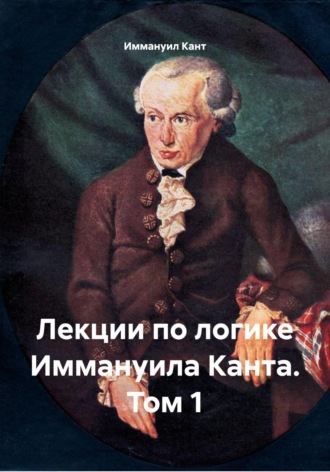
Полная версия
По мере роста разума всё больше объектов попадает в наш горизонт, и он постепенно расширяется.
Руссо совершенно прав, говоря, что все, писавшие о воспитании (как и большинство родителей), хотят сделать из детей совершенных мужей, тогда как сначала нужно сделать их совершенными детьми. Они опускают до горизонта ребёнка то, что относится к горизонту взрослого.
§ 48
В пределах нашего горизонта находится то, что не ниже, не выше и не за его пределами.
Определить учёный горизонт слишком сложно для юноши. Люди с опытом, которые сами ошибались, лучше всего могут его определить. Они укажут ученику, что необходимо, а что нет, и как легко здесь ошибиться.
Лучше сначала стремиться понять многое, чем углубляться в малое, так как это легче и увлекательнее для юноши. Следует составить общее представление о многих науках, а затем постепенно изучать их по одной. Это поможет, если углубляться в одну науку, видеть её связь с другими и пояснять одну через другую.
Очень ошибаются родители, которые уже в колыбели определяют горизонт и род занятий ребёнка. Например, если он хмурится, громко кричит и бранится, они решают, что он будет хорошим проповедником. А если другой в детстве любит разбирать и исследовать вещи, они заключают, что он станет искусным анатомом.
§ 50
Невежество всегда есть несовершенство и потому никогда не заслуживает похвалы, но оно может быть непорицаемым, если человек сознательно отказывается от некоторых знаний, чтобы не упустить более важные.
Лейбниц мог бы быть непорицаемо невежественным во многих вещах, например, в химии, древностях и других областях, которые лишь перегружали бы великий ум.
§ 52
Невежество можно разделить на обыденное и учёное. Чтобы учёный осознал, что он ничего не знает, требуется большая учёность.
Quantum est quod nescimus! (Сколько же мы не знаем!) Но никто не считает себя умнее начинающего, ведь тот ещё не понимает, что значит знать мало, много или ничего. Со временем он научится ценить свои познания и видеть их несовершенство.
Сократ считал величайшей учёностью осознание того, что он ничего не знает. Начинающий верит, что может всё определить и доказать, но не видит, какие лабиринты скрывают многие темы. Это понимание приходит с ростом учёности.
Учёный во многом так же невежествен, как простой человек, но он способен философствовать о своём невежестве, понимать его причины и степень.
Лишь после многих исследований, учёбы и поисков человек осознаёт своё невежество. Кто бы мог подумать, что мы знаем о субстанциях лишь внешние определения? Только тот, кто достаточно изучил поле учёности, понимает, как малы, несовершенны и ограничены все наши познания.
§ 53
Познание, обширное по охвату (включающее множество объектов), автор называет полигисторией. Те, кто учится из моды, обычно увлекаются ею. Их знание подобно большой стране с множеством пустых мест, менее плодородной, чем маленькая, но хорошо возделанная земля.
§ 55
Познание считается подробным и полным, если оно достаточно для определённой цели. Оно точно, если содержит не больше, чем нужно для этой цели.
Например, некоторые проповедники могли бы стать прекрасными учителями, но оказываются плохими священниками. И наоборот, многие учителя, плохо справляющиеся со своей работой, могли бы быть лучшими проповедниками.
§ 56
Тот, кто лишь поверхностно изучает науки, запоминает факты, чтобы говорить обо всём в обществе, обладает лишь тощей учёностью – чем-то вроде скелета знаний.
Он так же достоин презрения, как человек, который щеголяет в роскошных одеждах, но внутри страдает от болезней и нищеты.
Обладатель тощего познания никогда не бывает доволен, понимая его иллюзорность. Он не может наслаждаться собой, ищет общества других и радуется, когда хотя бы невежды считают его учёным.
§ 57.
Необходимо всегда стремиться расширять свои научные познания. Если мы не движемся вперед, то неизбежно откатываемся назад.
Нужно иметь непосредственную склонность к учености, если хочешь постоянно ее увеличивать и никогда не допускать ее упадка. Однако обычно приобретают лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы иметь хлеб и возможность жить.
§ 58.
Безусловно, мы никогда не перегрузили бы свою голову ученостью и не навредили бы себе, если бы должным образом соблюдали это правило и брались сначала за легкое, а потом за трудное.
Лучше было бы, если бы все науки сначала излагались совсем просто, так, чтобы для их понимания не требовалось выходить за пределы обычного употребления разума. Если бы науки так преподавались, тогда можно было бы перейти к их полному и глубокому изложению, что обычно делается с самого начала, хотя такая совершенная форма не всем необходима и часто приносит больше вреда.
Многие были бы довольны предварительным, вводным изложением наук (например, по "Исагоге" Геснера), чем более пространным и потому темным и сложным.
§ 59.
Гиппократ мудро сказал: Ars longa, vita brevis (Искусство долговечно, жизнь коротка). Ленивые люди обычно жалуются на длительность времени, которое им еще предстоит прожить. Но то время, которое они провели в бездействии и праздности, кажется им очень быстротечным и коротким, потому что они ничего не сделали и потому не могут вспомнить ничего важного, что бы в нем произошло.
Многие науки таковы, что со временем их объем превосходит человеческие способности.
Например, история уже сейчас чрезвычайно обширна, а с течением времени она будет становиться еще больше: в мире происходит все больше событий, которые все добавляются к истории, и в конце концов эта наука станет настолько обширной, что наша память окажется недостаточной для ее усвоения, хотя и сейчас это уже очень трудно.
С математикой, возможно, произойдет то же самое. То, что она содержит сейчас, уже весьма значительно для наших скромных способностей; возможно, со временем она станет настолько огромной, что наши потомки даже не осмелятся к ней приблизиться.
Возможно, со временем математические труды будут стоять, как египетские пирамиды, которые никто не повторяет, а лишь вспоминают о тех, что были созданы в прежние времена.
Однако, хотя ученость и чрезвычайно обширна, наша жизнь все же достаточно длинна, чтобы в ней как следует разобраться, если посвятить этому все свое время.
Зарабатывать хлеб – недостойная, низкая цель для учености. Великие познания вовсе не способствуют заработку. Небольшая доля учености, дерзость, искусство спора, наглость в возвышении себя и принижении других великих умов – вот что сейчас наиболее полезно для заработка. На должности может попасть кто угодно, кроме достойных.
§ 61.
Чтобы избежать забвения, автор говорит, что нужно много учиться, чтобы даже если что-то со временем забудется, все равно оставались знания, и мы не оказались бы сразу лишенными всякого познания.
Но лучше всего, пожалуй, однажды приобрести навык самостоятельно философствовать о предметах и развивать науки. Тот, кто обладает этим, подобен музыканту, который, хотя и забыл выученные пьесы, может сыграть любую предложенную ему музыку и даже сочинять сам.
§ 65.
Ученого, который постоянно демонстрирует свои знания в общении, называют педантом. Но чтобы быть таковым, человек должен действительно обладать навыком, который он, однако, старается применить везде, даже когда это неуместно. Совершенно глупым и невежественным он быть не должен. Педанты могут встречаться во всех сословиях, не только среди ученых. Например, среди дворян есть охотничьи педанты, которые говорят только об охоте, собаках, лисах, которые их обманули, зайцах, оленях и т. д.
Есть педанты моды, которые не могут нарадоваться и не находят конца жалобам, если у них испорчен или запутан манжет, локон или лента. В обществе педантом называют того, кто в своих речах приводит ненужные исследования и различения, которые гораздо уместнее за кафедрой, чем в веселой компании.
В учености педантством становится, когда постоянно хотят давать определения и высказывать ненужные сомнения. Методы, которыми сейчас обучают женщин, – это пути сделать их педантками.
Шарлатанство состоит в том, что человек мнит себя великим благодаря своим малым познаниям, ведет себя надменно и даже возвышается над другими.
Математический метод, которым в прежние времена кичились и хотели казаться основательными, был не чем иным, как разновидностью шарлатанства. Играть или хвастаться своими доказательствами или остроумием – тоже шарлатанство.
Чтобы избежать этого, нужно приобрести основательную ученость. Когда это будет сделано, сразу станет ясно, как многого нам не хватает и как мало у нас причин гордиться своими скромными знаниями, а, напротив, как много причин смиренно восклицать: Quantum est, quod nescimus (Как много того, чего мы не знаем).
Третий раздел О величии ученого познания§ 66–91
В предыдущем втором разделе мы говорили о пространности ученого познания, хотя оно, собственно, относится к его величию. Автор поступил неправильно, выделив пространность и величину в отдельные разделы.
В предыдущем разделе мы рассматривали экстенсивную сторону познания, теперь же остается рассмотреть его интенсивную сторону. Автор здесь делает совершенно излишнее различие.
Степень достоинства нашего понимания вещей зависит прежде всего от того, что мы выбираем верные вещи. Для этого нужны верный вкус и хорошее чувство, благодаря которым можно выбирать важные объекты, имеющие либо много, либо мало, но значительных последствий.
Понятия вежливости и непостоянства, хотя и не имеют больших, но имеют множество последствий в обычной жизни и потому чрезвычайно важны.
Множество последствий часто вполне заменяет то, чего не хватает в важности одного или нескольких из них.
Исправление заблуждения или совести, напротив, имеет единичные, но великие последствия.
Далее, для достоинства наших познаний важно не тратить слишком много усилий на то, что не так уж необходимо, и не пренебрегать другими предметами. Для правильной оценки важности познаний требуется особое хорошее чувство и истинная точность воображения. Последствия я могу легко показать другому, но научить его чувствовать их величие невозможно.
О метафизике я могу сказать, что она дает просветленные понятия о душе, провидении, высшем существе, мире. Но если он нечувствителен к этой великой пользе, никакие описания не помогут.
Познание велико постольку, поскольку имеет всеобщее применение. Однако все эти познания устроены так невыгодно, что хотя их применение и велико, и через них узнается многое, но в самих этих вещах познается тем меньше.
Я думаю о многих предметах мало.
Но есть и другое познание, через которое в немногих вещах познается многое. Предыдущий недостаток возникает большей частью из того, что мы мыслим всегда абстрактно, и отсюда рождаются многие другие.
Баумгартен говорит: красота есть perfectio phaenomenon (совершенство явления). Но можно ли из этого определения действительно заметить красоту в предметах, в познаниях?
Чем больше познание охватывает под собой, тем меньше оно содержит в себе.
Недостаток познания не всегда заслуживает порицания, если только он не противоречит поставленной цели. Но как только это происходит, из недостатка рождается заблуждение.
Отсюда само собой следует, что те, кто обещает дать определение вещи, сами запутываются в опасности, что малейший отсутствующий признак сразу будет им поставлен в вину, чего бы не случилось, если бы они указали, что не собираются полностью раскрывать вещь, а лишь объяснять ее в соответствии с определенным рассмотрением. То же самое с демонстрациями и доказательствами.
Границы, которые мы ставим своей любознательности, так необходимы, что без них мы едва ли можем правильно познать какую-либо науку.
Чтобы достичь способности полностью познать что-либо, мы должны добровольно наложить на себя как бы произвольный недостаток в отношении других, а также познаний, противоположных данному, то есть своего рода неведение их, дабы все усилия направить на это и постичь его вполне.
Недостатки (defectus) – это не что иное, как границы вещи, которая должна начаться; это пределы, рамки, и недостаток вполне совместим с совершенством начала.
Для оценки познаний нужна не проницательность, а лишь чувство. Математики могут быть очень проницательны, но не иметь вкуса к метафизике или иным логическим или моральным исследованиям.
Часто познания кажутся нам сухими и бесполезными. Но когда мы углубляемся в них, открываются их преимущества. Например, электричество было сначала просто забавной игрушкой, но потом оказалось полезным для лечения болезней. Возможно, со временем с его помощью даже можно будет рассеивать грозы.
Евклид открыл многие свойства круга, и только со временем стали видны их обширные преимущества.
Многие вещи стали презираемы лишь из-за злоупотребления. Например, вольфианцы так много и долго говорили о монадах, что стали посмешищем для остроумных поэтов.
Выражения "монад", "лучшего из миров", "достаточного и недостаточного основания" были настолько опорочены учёной чернью, что теперь уже действительно возникают сомнения в их употреблении. Многое, что на самом деле возможно и хорошо, может быть быстро осмеяно и представлено как абсурд.
Так, например, Вольтер высмеял мысль Мопертюи, когда тот считал, что египтяне, желая обессмертить своё имя, должны были закапывать в землю книги вместо постройки пирамид, отчего он выглядел совершенно смешным, хотя, возможно, был одним из величайших людей своего времени.
Впрочем, пусть каждый не применяет свою учёность к бесполезным предметам и не тащит её в обычное общество, как, например, случилось с учением о лучшем из миров, которое в конце концов стали применять ко всему подряд.
Наконец, следует заметить, что многое объявляется бесполезным умствованием просто потому, что люди слишком слабы, чтобы понять и осознать это.
«Подобно тому, как иной часто презирает прекрасную женщину, потому что не может добиться её благосклонности, или как лиса объявляет виноград незрелым, когда не может его достать».
Никогда, или по крайней мере очень редко, можно заранее увидеть всю пользу того или иного знания.
Разве Евклид, создавая свои теоремы, думал о том, что с их помощью будут вычислять расстояние до небесных тел?
Автор говорит, что промежуточные истины не должны быть упущены, поскольку они часто бывают очень нужны для главных истин. То, что знание трудно, ещё не значит, что оно не ценно.
То, что выглядит внушительно, нравится почитать, даже если оно бесполезно. Сюда относятся, например, софистические вопросы схоластов, логические уловки, фигуры силлогизмов. Один из схоластов так усердно изучал софистический тезис, который они называли «Лжец», что в итоге вынужден был носить свинцовые подошвы, чтобы хотя бы иметь вес и не быть сброшенным сильным ветром с моста.
Когда множество мелочей собираются вместе, они в конце концов образуют великое знание.
Знание может быть великим из-за множества своих следствий, даже если сами следствия не очень значительны или точны. Так обстоит дело, например, с арифметикой.
То, что для одного велико, для другого мало. Латинский язык, как и метафизические вопросы и исследования, важны и значимы для учёных мужей.
Но для женщин они бесполезны. Также и знатным особам, князьям и т. д., не нужны все знания – они могут во многих науках и вопросах полагаться на учёных, подобно тому, как человек, не разбирающийся в том или ином ремесле, доверяет мастеру, когда заказывает ему работу. Для таких господ, как князья и т. д., было бы излишним углубляться в метафизику и её исследования.
Напротив, им следует прививать истинную учёность, которая им необходима, то есть прежде всего учить их справедливости, ценности человека, своих подданных, ненависти к льстецам и лести, истинной заботе о гражданах страны и умению отличать истинные выгоды государства от ложных. Если им глубоко запечатлеть знание обо всём этом, то многие ныне дурно настроенные монархи станут исполнены благородного величия и возвышенных, достойных их положения мыслей. Тогда у нас будут счастливые правители, подданные и страны.
Великий ум занимается тем, что считает важным, а не мелочами.
Четвёртый раздел. Об истинности учёного знания.§ 92 и § 93
Главный и самый естественный вопрос для того, кто хочет изучать логику, – это, конечно: Что есть истина?
Ответить на этот вопрос, столь близкий человеческому разуму, особенно начинающему, окажется труднее, чем можно было бы подумать. Уже были люди, которые понимали, что дать ясное, полное и точное определение истины невозможно.
Так было всегда: ни один из древнеримских юристов, например, не мог точно сказать, что есть право и что неправо (quid sit jus), и тем не менее понятие, которое у нас есть, вполне пригодно для использования.
Чтобы понять трудности, связанные с понятием истины, отметим следующее:
Во-первых, если требуется указать критерий истины, то нужно дать суждение или правило. Но высший критерий указать невозможно.
Если знание не соответствует природе вещи, которую мы хотим представить и познать, то оно ложно, ибо не может быть истинным. Если же знание соответствует природе той вещи, которую мы представляем, то оно истинно.
Скептики, однако, возражали: Нечто истинно, если соответствует предмету. Но я не могу этого установить, не рассмотрев и не познав сам предмет. Таким образом, истина состоит лишь в том, что знание о предмете соответствует знанию о предмете. Но это тавтология (identitas idem per idem), ничего не объясняющая.
Этот аргумент назывался диаллелой (порочный круг), и скептики, рассуждая так, в итоге пришли к выводу, что всякое различение истинного и ложного бессмысленно.
В ложном знании я познаю и понимаю не саму вещь, которую хочу представить, а другую. Например, если я представляю полипа как червя, то у меня ложное знание о полипе.
Ложные учёные знания – это те, которые считаются или кажутся учёными, но на самом деле таковыми не являются. Это происходит, когда неясные обыденные знания облекают в термины оккультные (terminos occultos), отчего не получают правильного понятия о вещи, а лишь объясняют то же через то же.
Например, если спросить о причине размножения и увеличения человеческого и животного разума и захотеть получить ясное понятие о том, как это происходит, древние с напускной учёностью отвечали: Причина размножения людей и животных – это vis plastica (формирующая сила).
Тогда воображают, что дали действительное объяснение, но на самом деле лишь повторили вопрос другими словами.
Понятие такой вещи слегка переодевают, так сказать, надевают на него плюмаж и затем чрезмерно превозносят.
В трудах древних философов такие скрытые качества (qualitates occultas) встречаются очень часто, а у Крузия их столько же, сколько у древних. Он говорит, например: Нечто истинно, потому что никто не может считать и признавать его иначе, как истинным.
Одно означает то же, что и другое – это и есть скрытое качество.
Когда не хотят углубляться в причину того или иного явления, часто приводят мнимые основания. Например, если спросить, почему один зевает, глядя на другого, древние серьёзно отвечали: Причина тому – симпатия. Но это слово означает лишь сочувствие. Таким образом, они сказали лишь, что это происходит потому, что один должен сочувствовать другому. Но какое это имеет отношение к зеванию? Никакого объяснения они не дали.
В истинности учёного знания важна также форма. Само знание должно быть не обыденным, а именно учёным.
Материя знания часто может быть истинной: знание может соответствовать природе вещи и, таким образом, как обыденное знание, быть истинным.
Но если это знание должно быть учёным, не будучи таковым на деле, оно становится ложным учёным знанием.
Распространение скрытых качеств – это могила философии. Тогда воображают, что обладают истинным учёным знанием, хотя на деле это лишь обыденное знание.
То, что Крузий пишет о вероятности в своих трудах, многим очень нравится, но на самом деле это лишь то, что и так известно из обыденного знания, только подано с напыщенностью, всегда свойственной Крузию.
Отсюда естественно следует, что это имеет видимость, но не сущность учёности и учёного знания.
Первые шаги в любой области – знании, науке, искусстве и т. д. – всегда трудны.
Истина и заблуждение никогда не заключены в самих понятиях, а только в суждениях. Тот, кто никогда не судит, никогда и не ошибается, но и истину он тоже никогда не выскажет.
Понятие – это всегда данное, о котором я должен судить. Понятия – это материал для суждений.
Существуют методы, позволяющие избежать всякой ошибки, но они настолько просты, что именно поэтому их не ценят. Они заключаются вкратце в следующем: не судите так много, не принимайте решений часто, да, очень редко, кроме определённых случаев, когда это действительно необходимо. Не определяйте постоянно и очень редко, истинно ли что-то или ложно.
Таким образом, чтобы избежать ошибки, необходима некоторая умеренность в мышлении и в суждении.
Но как многие философы нашего времени любят постоянно выносить решения!
Этой дерзкой уверенности в принятых или самостоятельно выдуманных мнениях, этим издавна привычным решительным суждениям о положениях разума Пиррон противопоставил: «Non liquet» («Не ясно»). – Многие авторы запутываются в подобных сомнительных обстоятельствах из-за решительных суждений и побочных мыслей, которые часто воспринимаются как ошибки.
Главное средство против ошибок – ничего не различать, мало судить. Отсюда и происходит, что в деревне, полной крестьян, ошибок гораздо меньше, чем в академии наук: бездумность охраняет их от ошибок.
Но можем ли мы, желая избежать всех ошибок, решиться оставить многое без рассмотрения?
Это говорит нам лишь о том, каковы должны быть границы наших суждений, и именно об этих границах и следует судить. Но если бы у нас были чрезвычайно важные цели, так что даже малейшая ошибка была бы опасна, то, конечно, лучше оставаться на месте и судить лишь о том, что касается наших дел, как, например, в морали.
Невежество – это пустое пространство в нашей голове, и оно ещё не препятствует истинному знанию, если не распространяется. Ошибка же, напротив, есть препятствие для истины.
Пока наши познания – лишь спекуляции, мы ещё можем позволить себе ошибаться. Но как только ошибка становится вредной, а это происходит, как только она переходит в практику, – тогда очень опасно её удерживать.
Суждения – это действия рассудка и разума.
Чувства же не судят; не все понятия происходят из рассудка, некоторые – из чувств, но все суждения исходят исключительно из рассудка.
Часто люди принимают уверенное суждение своего рассудка за ощущение или представление чувств, хотя это вовсе не так.
Об ощущении спорить нельзя. Оно есть данность, и в нём ещё нет ошибки. Но часто такое ощущение на самом деле является суждением рассудка по поводу этих ощущений.
Ссылки на подобные чувства и ощущения сейчас очень в моде. Некоторые хотят мастерски чувствовать и ощущать, что правильно и что нет, причём через внутреннее, присущее только им моральное чувство. Смешно! При этом рассудок обязательно должен быть задействован.
Истина есть не что иное, как соответствие познания законам рассудка и разума, а противоречие познания этим законам есть не что иное, как ложь.
Ни одна сила в природе не отклоняется в своих действиях от своих законов или условий, при которых она может действовать. Рассудок сам по себе, следовательно, не может ошибаться.
Все суждения согласуются с законами рассудка; все суждения рассудка, следовательно, истинны. Даже в наших ошибочных суждениях рассудок всегда что-то сделал, и потому в них не может быть всё ложно, но всегда должно оставаться нечто истинное.
Совершенно невозможно, чтобы человек, вынося суждение, полностью ошибался.
В ошибке, таким образом, есть ещё истина, но мы судим здесь смешанно, примешивая действия других душевных сил, и отсюда возникает ошибочное, столь противное рассудку, что мы, однако, ложно думаем, а часто и совершенно уверены, будто это – действие рассудка. Хотя на самом деле это не что иное, как некий бастард чувственности и рассудка.
Поскольку, как мы уже показали, каждое суждение не обходится без элемента истины, то необходимо следует, что мы должны весьма умеренно относиться к критике истины, к суждениям или даже ошибкам других. Ибо есть верный принцип: никогда нельзя прийти к истине, если постоянно спорить, если один всегда противоречит другому.
Каждое обнаружение грубой и явной ошибки весьма печально, поэтому лучше не делать таких печальных открытий, а взаимно и дружески помогать друг другу, поддерживать, а не действовать всегда друг против друга.









