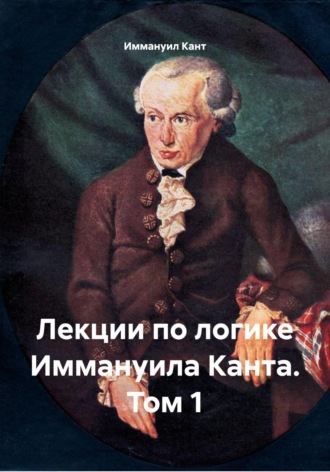
Полная версия
Вместо того чтобы опровергать что-то, следует лишь исследовать, не кроется ли в этом действительно истина, чего не хватает для восполнения, и так действовать сообща, а затем объяснить заблуждающемуся в наименее резкой, а любовной манере, как это вовсе не удивительно, что он мог легко и охотно ошибиться.
Эта спокойная манера суждения, это хорошо применённое добродушие настроений столь же необходимы для достижения добросовестного познания, сколь они всегда могут быть нужны в обычной жизни.
Однако по природе вещей не существует полной ошибки.
Иначе рассудок должен был бы противоречить самому себе и своим предписаниям.
Ошибки, какими бы большими и важными они ни казались, – все лишь частные.
Никого нельзя научить иначе, как только через остаток рассудка, ещё в нём сохранившийся. Никого нельзя исправить иначе, как только через остаток добра, ещё в нём оставшийся.
В обучении рассудка и исправлении воли я всегда должен предполагать нечто истинное и нечто хорошее.
Суждение каждого другого человека – всё же суждение одного из тех людей, чьи суждения, взятые вместе, судья и величайший ценитель всех продуктов моего рассудка.
Противоречие, конечно, есть не что иное, как событие, когда один говорит «да», а другой – «нет».
Отсюда следует, что это должно естественным образом беспокоить каждого разумного. Но всеобщая обязанность философа в таком случае – всегда вставать на сторону человечества вообще и мыслить благожелательно: эти столь причудливые и нелепые мнения, возможно, вовсе не так плохо обдуманы, не так нелепы, как кажется.
Всё, что делает людей едиными и мирными, действительно сильно способствует совершенствованию всего человеческого рода. Противоречие же ничего не производит.
Это верно повсюду, а значит, и во всём мире, среди учёных:
Concordia res parvae crescunt
Discordia dilabuntur
(«При согласии и малые дела растут, при раздорах и великие распадаются»).
Далее, границы, то есть узкие пределы, которыми окружён человеческий рассудок, ни в коей мере, как полагают многие мнимые философы, не являются источниками ошибок. Хотя они действительно являются причинами невежества человека во многих вещах, но не ошибок. Однако как только с этим невежеством соединяется самомнение, дерзость, учёная спесь судить больше, чем знаешь и способен, – тогда может возникнуть ошибка.
Единственная причина ошибки, таким образом, – это неуместная дерзость преступать границы и пределы собственного рассудка.
Рассудок сам по себе не ошибается. Чувства сами по себе тоже не ошибаются: они пассивны и вовсе не судят.
Только человеческий рассудок выносит суждения.
Следовательно, должны быть и определённые материалы, вещества для суждений.
Рассудок необходимо должен соединяться с чувственностью, чтобы судить, и это ни в коей мере не зависит от произвола.
Таким образом, существуют и субъективные условия нашего рассудка и мышления, и все мы относим их к чувственности.
Иногда рассудок как бы в некотором затруднении. Его горизонт совершенно затуманен. Но поскольку рассудку всегда должны быть предоставлены понятия для выбора, мы понимаем, что чувственность всегда должна ему помогать. Однако часто этого недостаточно.
Для всякого различения истинного от ложного требуется познание внутреннего чувства, то есть я должен осознавать и понимать, что именно содержится в моём понятии и что я мыслю.
Внутреннее чувство часто тупо, его горизонт затуманен, и оно не даёт нам достаточной помощи.
Но поскольку внутреннее чувство тоже относится к чувственности, а без него рассудок не может судить, то рассудок должен судить с помощью чувственности. И именно это соединение и смешение рассудка с чувственностью является источником всех ошибок, когда действия рассудка принимаются за действия чувственности.
Как мы видим, разум и чувственность сами по себе не могут ошибаться, но мы также понимаем, как возможна ошибка.
Все ошибки, так сказать, – это кривые линии, которые мы определяем, будучи движимы с одной стороны разумом, а с другой – заблуждением.
Мы видим перед собой игру вещей мира, но у нас еще нет полного понятия об их движении.
Чувства не судят. Внутреннее чувство, которое единственно учит нас, осознаем ли мы все условия познания или нет, не всегда служит нам верно, и отсюда возникает видимость, будто самим предметам не хватает чего-то для их познания.
Например, можно иметь правильные правила для вычислений и тем не менее ошибаться в их применении. Обычно это ошибка внутреннего чувства, происходящая из-за упущения.
Единственное средство избежать ошибки, таким образом, будет заключаться в том, чтобы я нашел определенные критерии, с помощью которых смогу при каждом суждении правильно отличать то, что исходит от разума, от того, что предоставляют нам внешние или внутренние чувства.
Но разум, оставленный внутренним чувством, судит сразу, что бы ни вышло, если внутреннее чувство предлагает ему что-то неверное или вообще ничего.
Все критерии истины бывают либо:
A) внутренние,
либо B) внешние.
Первые – объективные, содержащие основание, почему нечто является истинным или ложным. Вторые – субъективные, содержащие определенные обстоятельства, благодаря которым можно предположить истинность или ложность чего-либо.
§ 94:
То, чем истинные познания отличаются от ложных, есть признак истины.
Принцип тождества – формальный признак истины для утвердительных суждений, а принцип противоречия – для отрицательных.
Материальные признаки – это промежуточные признаки (notae intermediae), посредством которых я доказываю суждение, материальные принципы.
В простой и совершенно элементарной идее, естественно, не встречается ни истины, ни лжи; они возникают только при сравнении.
Если я приписываю вещи признак, который ей противоречит или даже полностью противоположен, или отрицаю в ней признак, который в ней тождественен.
То, посредством чего я узнаю, что сравнение с вещью правильно или нет, называется промежуточным признаком (nota intermedia, материальный принцип). Например, если я хочу доказать, что тело делимо, я принимаю промежуточный признак – что оно составное – и заключаю следующим образом:
Все, что составлено, делимо.
Но всякое тело составлено.
Следовательно, всякое тело делимо.
Некоторые суждения таковы, что они вовсе не имеют материального признака истины, а несут лишь формальный. Это, собственно, непосредственные суждения, которые мы имеем о вещи и которые не можем доказать или вывести ни из чего больше. Например, что тело составное.
Простые понятия имеют признак того, что они всегда истинны. Например, если я представляю себе луну круглой, это истинное понятие, потому что я действительно так ее мыслю.
Но если я сравниваю это представление о луне с представлением о других планетах и сомневаюсь, круглая ли луна или овальная, то здесь я могу легко ошибиться, и мое познание может быть как истинным, так и ложным.
§ 95:
Среди всех признаков истины первым внутренним признаком, или главным признаком, является внутренняя возможность.
Опыт учит нас возможности многих вещей, которые иначе мы бы не сочли возможными.
Однако возможность еще не является достаточным основанием для истины: потому что что-то возможно, и если мы можем хорошо это представить и мыслить разумом, это еще не значит, что оно действительно истинно.
Но возможность, по крайней мере, является основанием вероятности: если что-то возможно и может быть нами мыслимо, мы хотя бы верим и надеемся, что это может быть истинным, даже если не можем утверждать это с уверенностью.
Невозможность же, напротив, всегда является достаточным и надежным основанием для несомненного доказательства неистинности или ложности чего-либо.
Если мы понимаем, что что-то совершенно невозможно, мы обычно сразу считаем это ложным.
Однако здесь следует заметить, что в обоих случаях мы можем ошибаться. Очень часто мы считаем что-то полезным, а следовательно, и истинным, и правильным, что при ближайшем рассмотрении оказывается совершенно невозможным и ложным. И наоборот, мы считаем невозможным и ложным то, что на самом деле возможно и истинно, или если не истинно, то хотя бы полезно.
§ 96 и 97:
Если следствия познания истинны, то и само познание истинно. Например, истинно и общепризнанно, что существуют огнедышащие горы, теплые источники и т. д. А раз это истинно, то вполне может быть истинным и то, что в земле есть центральный огонь.
С некоторым основанием мы можем заключить о центральном огне земли, ведь эти огнедышащие горы, теплые источники и т. д. с большой вероятностью могут считаться следствиями такого центрального огня, и по следствиям очень часто можно правильно заключить о причине.
Если все следствия познания без исключения истинны, то и само познание несомненно истинно. Ибо если бы в познании была хоть какая-то ложь, она уже должна была бы проявиться в следствиях. А если этого нет, то в познании не может быть ничего ложного.
Например, если в газетах сообщают о счастливом сражении и объявляют победу героя; если это публикуется даже с кафедры; если устраиваются торжественные мероприятия, празднуются благодарственные службы – короче, если все следствия этого истинны, то и само сражение должно быть истинным.
Но иногда мы не можем познать все следствия чего-либо, и тогда среди них могут оказаться и ложные, даже если мы считаем само познание истинным. Например, если мы допускаем существование центрального огня в земле, то из этого следует, что слои земли, находящиеся недалеко от этого огня, должны были бы высохнуть и испортиться от чрезмерной и сильной жары и в конце концов обрушиться.
Но поскольку, как легко понять, это следствие ложно, то и центральный огонь нельзя считать совершенно несомненным и достоверным.
Если познание должно быть согласованным, оно должно иметь верные основания и важные, а также истинные следствия.
§ 98–99:
Познание возможности вещи происходит из опыта; разум не может нас этому научить. Например, что магнит притягивает железо.
Возможность составных тел мы можем понять разумом, если убеждены в возможности простых действий.
Но первая возможность причин и действий раскрывается только чувствами через опыт. Поэтому разум не может возражать против невозможности того, возможность или действительное существование чего мы ясно познаем через опыт. Ведь опыт через действительность вещи естественно учит нас и ее возможности.
Но разум может из этих примеров опыта вывести определенные законы возможности той или иной вещи. Однако первые данные и материальные принципы возможности должны быть нам даны из опыта и происходить из него.
Но мы не должны считать что-то невозможным только потому, что не можем этого помыслить или представить себе чувствами. Например, слепой от рождения не может с помощью разума создать представление о цветах, потому что опыт не дает ему для этого данных. Тем не менее, он не может и не должен заключать об их невозможности. Если бы мы так поступали, вся философия была бы упразднена.
Существуют логические истины. Это те, которые относятся только к рассудку и разуму.
С другой стороны, мы можем мыслить также эстетическую и практическую истину. Первая относится к отношению вкуса, вторая – к правилам свободной воли.
Но логическая истина не всегда эстетически истинна и не всегда влечет за собой практическое совершенство.
Всякая истина сама по себе есть логическое совершенство, или совершенное познание, согласно правилам рассудка и разума.
Многое может быть эстетически истинным, не будучи логически истинным – оно должно только возбуждать и доставлять удовольствие. Например, так обстоит дело с романами.
Даже практическая истина не всегда должна основываться на рассудке и разуме. Например, если я клевещу на кого-то перед другим, я могу этим возбудить его страсти и таким образом повлиять на его волю, хотя эта клевета и не является логически истинной.
Логическая истина отличается от эстетической тем, что если что-то доставляет мне удовольствие и трогает меня, я могу несколько пренебречь его истинностью. Таким образом, логическая истина часто может уступать эстетической.
Истина не всегда нравится нам больше всего, иногда даже ложь делает нас счастливее: мы гораздо счастливее в сказках, чем в логических истинах. Например, тот, кто в живописи берет за основу природу, не всегда согласуется с удовольствием, очарованием и наслаждением. Вымысел часто трогает гораздо сильнее.
Наши желания часто относятся к области вымысла. Они часто устремлены к чему-то лучшему, чем то, что природа нам действительно предлагает. Например, нам нравится энтузиазм в дружбе, нас трогает идеализированная пастушеская жизнь. Конечно, даже в эстетической истине всегда должна быть некоторая логическая истина, но чем больше мы обращаем внимание на эстетически истинное, тем меньше логической истины может содержаться в предмете, который мы хотим представить. Например, эстетически верно, что человек, когда умирает, не воскреснет вновь, хотя это прямо противоречит логической (не говоря уже о моральной) истине.
То, что говорят все люди, истинно по правилам вкуса и, следовательно, эстетически истинно, ибо для этого достаточно всеобщего согласия. Однако это очень часто ложно по правилам разума. То, что истинно по правилам вкуса, люди часто представляют себе возможным и действительным, потому что им этого хочется.
Все басни содержат в себе эстетическую, но редко – логическую истину. Например, разговоры животных. Здесь, конечно, должно быть что-то действительно истинное, но эстетическая истина имеет преимущество перед логической: в ней представляется что-то возможное. В этом нет никакой нелепости – почему бы животным и не говорить?
При определенной гипотезе, которая может быть вымышленной, даже в басне может присутствовать некоторая степень логической истины.
Однако степень истины, которая должна в ней содержаться, до сих пор ни один ученый не смог точно определить, и величайшим эстетикам не удалось ее указать. Объективные признаки часто были бы нам недостаточны. Здесь можно ссылаться лишь на согласованность наших знаний между собой или с знаниями других – как, например, в арифметике.
Мы всегда проверяем суждение разумом других или своим собственным в разное время и в разных ситуациях, но очень часто мы полагаемся на видимость, то есть на то, как оно нам сначала представляется. Мы хотим лишь добиться одобрения других.
Мы охотно публикуем свои суждения, если можем этим заслужить или, как нам кажется, добиться чего-то.
Человеческий разум, имея естественный закон расширять свои знания насколько возможно, не должен быть лишен средств, с помощью которых он может отличить истинное от ложного и не только обогатить, но и исправить свои знания.
Поэтому нельзя препятствовать обнародованию суждений, то есть их представлению на суд всех. Это всеобщее право каждого человека и единственный верный путь к истине.
Даже математика заимствует свои положения и триумфальную, непреодолимую уверенность в своих аподиктических доказательствах и убеждениях не столько из объективных, сколько из субъективных критериев истины, ибо в этой науке есть нечто, согласующееся с любым разумом.
Но там, где знания сначала возносятся очень высоко, а затем низвергаются еще глубже, велико подозрение, что всеобщее одобрение, которое им сначала оказывалось, основывалось лишь на особенностях отдельных умов и потому не может быть постоянным.§ 100:
Знание либо совершенно истинно, либо частично истинно, либо частично ложно. Однако знание никогда не может быть полностью ложным, хотя часто может быть полностью истинным.
Всякое суждение исходит из разума, поэтому оно должно в какой-то мере согласовываться с законами разума и рассудка. Поэтому невозможно, чтобы человек вынес совершенно ложное суждение и даже считал его совершенно истинным, ибо тогда суждение противоречило бы законам разума.
Таким образом, знание, которое считается полностью ложным, все же будет лишь частично ложным и всегда содержать некоторую степень истины. Даже в суждениях безумного человека (как бы странно это ни казалось) при ближайшем рассмотрении всегда можно обнаружить хотя бы частичную истину.
Если бы мы допустили, что некоторые суждения могут быть полностью ложными, тогда рассудок мог бы отклоняться от всех законов, и тогда под этим предположением весь авторитет нашего учения о разуме рухнул бы, и мы не могли бы ему доверять.
Если бы другой мог судить совершенно ложно, то то же самое могло бы быть и с нами, и тогда во всем использовании нашего рассудка и разума мы были бы крайне неуверенны.
Поэтому, если мы думаем, что обнаружили ложь в суждении другого, мы должны быть убеждены, что в нем есть какая-то частичная истина, как бы глубоко она ни была скрыта.
В этом основном положении действительно много справедливости. Такой образ мыслей морален и участлив, ибо не отнимает у других сразу всю истину в их знаниях.
Но если исключительное себялюбие заботится лишь о собственном благополучии, не уделяя ни малейшего внимания благу других, то и исключительное суждение, приписывающее себе обладание всеми истинными знаниями, а другим отказывающее в них и приписывающее им лишь ложные вымыслы, есть не что иное, как пагубное самомнение, возвышающее себя и презирающее всех остальных.
Люди, охваченные таким самомнением, думают, что только в их разуме свет, тогда как все остальное погружено во тьму египетскую.
Многие суждения и понятия истинны в своих существенных частях, но ложны в случайных.
В теории мы часто судим ошибочно. Тем не менее, наши суждения на практике могут быть истинными.
Даже в естественной теологии могут быть ошибочные идеи и спекуляции, которые на практике истинны. Например, о вездесущии Бога можно думать как о ничто или как о распространении по всему пространству. Это представление, конечно, ложно, но на практике оно истинно. Бог вездесущ, как бы это ни понималось, и мы должны благоговеть перед Его вездесущием, каким бы оно ни было.
Если спекуляция действительно ошибочна, но эта ошибка не влияет на практику, то есть на нравственность, то она безразлична для морали и не так отвратительна, как если бы она развращала нравы.
Поэтому, если наши суждения противоречат суждениям других, мы должны руководствоваться следующими правилами, чтобы их сравнить:
Знание истины – это когда наши суждения согласуются с суждениями других, кто может знать об этом, или, что то же самое, когда они общезначимы.
Если в моем суждении есть что-то противоречащее суждениям других, я не могу быть уверен в его истинности и должен сначала постараться найти какую-то, даже скрытую и натянутую, согласованность моего суждения с суждениями других. И такая согласованность действительно почти всегда легко находится, ибо в согласующихся суждениях больше согласия, чем мы предполагаем. Нужно лишь правильно понимать суждения других и не искажать их.
Нет системы всеобщих истин разума, которая была бы полностью истинной, кроме математики, как и нет знания, полностью ложного.
Знание может быть частично истинным, будучи полностью истинным не для всего объекта, а лишь для его части. Тем не менее, такие знания всегда достоверны.
Тот, кто без раздумий сразу уверенно признает истинность всей философской системы другого, явно не понимает ее и не способен отличить истинное от ложного. Ибо несомненно: ни одна система не может быть полностью истинной, в ней всегда есть ложь, даже если она не касается существа системы. В философских истинах ошибки и заблуждения всегда так перемешаны с истиной, что в них всегда есть что исправить.
§ 102
Познание является точным, если оно содержит в себе столько истины, сколько требуется для достижения главной цели, но, напротив, грубым, если с его помощью главная цель не может быть достигнута. (Точность – это познание, но её нельзя противопоставлять грубости, а грубость следует противопоставлять единству.)
Пунктуальность, точность заключается в том, чтобы указывать в познании не больше истинного, чем необходимо для его понимания. Нарушение этого правила становится большой ошибкой. Грубым называется то познание, для которого требуется лишь небольшое внимание, а утончённым – то, для ясности которого необходимо большее внимание.
Иногда необходимо быть утончённым, потому что из-за пренебрежения утончённостью возникают большие затруднения, хотя сама утончённость, требующая чрезмерного внимания, часто подвергается порицанию.
В отношении практических познаний можно вполне полагаться на здравый смысл.
Правило для самопроверки и проверки своего знания о каком-либо познании таково: если я сам полностью понимаю и осознаю что-либо, то я должен суметь так ясно и понятно объяснить это другому человеку, обладающему лишь здравым смыслом, чтобы он понял это так же полно, как и я. Если же я не могу этого сделать, это верный признак того, что я сам ещё не до конца это понимаю.
Всякое познание подвержено частичной лжи, но эта ложь касается лишь степени точности, и оно всё ещё может быть достаточно точным для достижения своей цели. Например, если я измеряю гору, я никогда не смогу измерить её настолько точно и безошибочно, чтобы не ошибиться хотя бы на несколько дюймов. Тем не менее, результат моих измерений будет достаточным и достаточно точным, чтобы определить общую высоту горы. Многие из наших разумных суждений сделаны лишь на глаз и, конечно, могут быть недостаточно точными с точки зрения более тонкого разума и учёности, но для своей цели они вполне точны.
Высшая и наиболее трудоёмкая точность, достигаемая с большой аккуратностью и учёностью, но бесполезная с точки зрения главной цели, называется педантичностью. В математике же дело обстоит совсем иначе. Там всегда должна быть точность, там ничто не должно упускаться.
§ 103
Если познание, рассматриваемое исторически, правильно, оно всё же может быть формально неправильным. Например, утверждение «душа бессмертна» материально истинно и правильно. Однако форма, в которой это представляется, может быть совершенно ложной.
Познание материально истинно, если мы имеем о нём материальное знание. Формально же оно истинно, если основания для его доказательства и выведения верны.
Многое, что в отношении практики несомненно верно, ложно с точки зрения разума, например: «часть меньше целого» или «мир должен иметь начало».
Познание может быть материально истинным, но формально ложным, но не наоборот. В таком случае это формальная ошибка. Такие ошибки встречаются в философии чаще, чем можно подумать.
Так, в скрытых качествах (qualitates occultis), которые указывают как причину вещи, кроется не материальная, а формальная ошибка, когда данный вопрос отвечается самим же вопросом.
Все определения, объясняющие idem per idem (то же через то же), формально ошибочны.
Эти формальные ошибки возникают, когда философу в познании дарят доказательство, уже будучи заранее убеждёнными в его истинности и считая доказательство излишним.
Там, где мой здравый смысл предшествует познанию истины, я ничуть не затрудняюсь и не должен затрудняться проверкой строгости доказательства. Эта строгость, которую применяют к определённым утверждениям, часто происходит от того, что они должны рассматриваться не только как очень истинные, но и как очень необходимые.
Так обстоит дело с двумя догматами естественной религии:
1. Бог существует.
2. Существует иной мир.
Те, кто хочет исследовать такие поверхностные доказательства подобных необходимых утверждений и делать тонкие различения, сразу же попадают в дурную славу, потому что считается, что они могут быть врагами самих этих утверждений.
Это благочестивые обманы (piae fraudes), которые так свойственны человеку, так ему присущи.
Люди думают и верят, что поступают правильно, когда считают, что не обманывают кого-то, если под разными предлогами и уловками внушают ему что-то хорошее, даже часто видят в этом заслугу. Но, не обращая внимания на моральную сторону этого обмана, который всё же остаётся, он сам по себе предосудителен. Рекомендация добродетели должна быть добродетельной.
Многое часто признаётся истинным без всяких признаков. Такие неопровержимые истины называются недоказуемыми, то есть потому, что в них нельзя сомневаться, иначе их не нужно было бы особо доказывать.
Познание, все следствия которого истинны, также истинно. Но если хотя бы одно следствие ложно, то и познание ложно.
Из ложного познания не может возникнуть ничего истинного, ибо ложное познание – это истинное ничто. Однако следствия познания, частично истинного, частично ложного, могут быть истинными.
Таким образом, при исследовании познания нужно обращать внимание не столько на его истинные, сколько на его ложные следствия.









