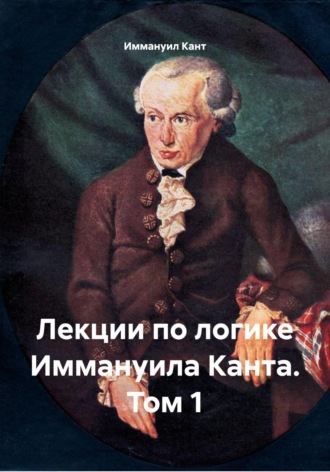
Полная версия
Относительная или сравнительная достаточность (sufficientia relativa или comparativa) достаточна для того, чтобы отличить вещь от тех вещей, которые мы знаем до сих пор, но не от всех возможных вещей, которые когда-либо могут существовать. Например, золото отличается от всех других металлов своей тяжестью, но уже обнаружен металл, называемый платиной, который имеет белую окраску, но такую же тяжесть, как золото. Следовательно, этот признак и основание различия золота от всех других металлов недостаточны.
Вещи, воспринимаемые нашими чувствами, могут быть познаны и различимы только посредством признаков, которые являются относительно достаточными, но не посредством таких признаков, которые абсолютно достаточны.
Достаточность признаков (sufficientia notarum) бывает:
1. Внешней (externa)
2. Внутренней (interna)
Первая состоит в том, что признаки вещи достаточны, чтобы отличить её от других вещей посредством сравнения. Вторая же состоит в том, что признак вещи достаточен, чтобы вывести из него все остальные определения этой вещи. Из этой достаточности возникает деление оснований познания на:
A. Внутренние
B. Внешние
Из последних нельзя ничего вывести. Например: золото имеет жёлтый цвет, человек – это животное, которое смеётся. Первые же плодотворны, так что из них вытекает многое.
Внешние основания познания часто могут быть сами по себе очень важными, но в отношении внутренней достаточности – бесплодными и бесполезными.
§ 120
Необходимые признаки – это те, которые относятся к сущности (ad essentiam pertinentia), без которых вещь вообще нельзя мыслить. К сущности относятся:
1. Либо только как причины
2. Либо как следствия
Всё, относящееся к сущности:
A. Essentialia (существенные признаки). Например, протяжённость.
B. Attributa (атрибуты). Например, делимость тел.
Случайные же признаки (extra essentialia) – это те, без которых вещь всё же можно мыслить. Например, учёность у человека.
Если существенные признаки (essentialia) являются признаками, то они не подчинены друг другу, а координированы. Атрибуты же не координированы с существенными признаками, а подчинены им, так как вытекают из них.
§ 121
Случайные признаки (extra essentialia) бывают:
A. Внутренние
B. Внешние
Последние также называются отношениями (relationes). Внутренние, в свою очередь, делятся на:
1. Необходимые
2. Случайные
Первые снова делятся на:
1. Полные (completae) – признаки, достаточные для того, чтобы вывести из них всё, что содержится в вещи.
2. Неполные (incompletae) – если признаки недостаточны, чтобы вывести и познать всё, что принадлежит вещи.
Внутренние случайные признаки называются модусами (modi). Изменение внешних отношений не изменяет самого человека, хотя в природных вещах изменение отношения чаще всего кажется связанным с изменением модуса.
Лето и зима – это не изменения в самом солнце, а лишь изменённые отношения (relationes) солнца к нашей земле.
Модусы – это не что иное, как внутренние определения и изменения, которые можно мыслить в вещи.
Отношения же – это изменения, происходящие с вещью в связи с другими вещами и в соотношении с ними.
Теперь мы ставим вопрос: может ли при полноте необходимых внутренних признаков (completudo notarum necessariae internae) также иметь место точность (praecisio), так что при этом обнаруживаются избыточные признаки, которые уже не нужны для того, чтобы отличить вещь от всех других и вывести из них все надлежащие определения, так что опускается всё, что, даже если его не будет, всё же таково, что и без него понятие останется полным?
Ответ: Да. Это часто возможно. Необходимые внутренние достаточные признаки (notae rei necessariae internae sufficientes) составляют точность.
Если признаки содержат не меньше, чем необходимо для различения вещи, то это есть точность.
Наконец, если признаки вещи полностью ей соответствуют, то они называются адекватными признаками (notae adequatae).
Адекватное понятие о вещи, поскольку оно не может быть выведено из другого, есть понятие сущности (essentia).
Сущность вещи – это первое достаточное основное понятие, которое достаточно для того, чтобы вывести всё, что принадлежит этой вещи.
Необходимые признаки (notae necessariae) бывают:
A. Первичные (primitiveae)
B. Производные (derivativae)
Первые составляют существенные признаки (essentialia), вторые – атрибуты (attributa). Например, у треугольника углы так же необходимы и незаменимы, как и стороны, но первые выводятся из последних и потому являются атрибутами, тогда как сами стороны – основные существенные признаки (essentialia).
Для познания существенного в вещи необходимо следующее:
– Чтобы познать атрибуты, я должен познать внутренние необходимые признаки, которые сопровождаются другими.
– Чтобы познать существенные признаки, я должен понять, что признаки не могут быть выведены из других.
– Чтобы познать саму сущность, я должен знать, что признаки и существенные признаки полны и, взятые вместе, достаточны для познания целого.
Согласованность признаков, которая является полной, составляет полноту (completudinem).
Основное понятие всего того, что необходимо для вещи, есть её сущность. Исследовать сущность вещей – это задача и цель философии.
Признаки, которые, взятые вместе, составляют сущность вещи, суть существенные признаки (essentialia). Следствия же (rationata sive consectaria), вытекающие из сущности, – это атрибуты (attributa).
Модусы (modi) – это внутренние признаки, возможность которых определяется только через сущность.
Таким образом, модусы не являются следствиями сущности в отношении их истинности, а лишь в отношении их возможности. Модусы, следовательно, есть не что иное, как случайные признаки.
Как модусы, так и отношения (relationes) вовсе не принадлежат к сущности (ad essentiam non pertinent) – ни как составляющие её (constitutiva), ни как атрибуты.
Все признаки вещи либо принадлежат к её сущности (essentialia), либо нет. Принадлежащие к сущности (ad essentiam pertinentia) суть либо существенные признаки (essentialia), либо атрибуты (attributa). Не принадлежащие к сущности (extraessentialia) суть либо внутренние признаки (notae internae), либо отношения (relationes), то есть внешние признаки (notae externae), возможность которых определяется только через сущность.
Сущность делится:
1. На логическую (essentia logica)
2. На реальную (essentia realis)
Полное основное понятие вещи вообще есть её сущность.
Первый основ всего того, что мыслится мной в понятии вещи, есть логическая сущность. Первый же основ понятия всего того, что действительно и на самом деле принадлежит вещи, есть реальная сущность.
Отсюда естественно следует, что логическая и реальная сущности необходимо должны очень отличаться друг от друга.
Когда я произношу слова и связываю с ними определённое понятие, то то, что я мыслю при этом слове и выражении, есть логическая сущность. Например, когда я произношу слово «материя», то всё то, что неотделимо от понятия, которое я связываю с выражением «материя», есть логическая сущность материи.
Логическую сущность всегда можно представить и мыслить отдельно. Так, например, в случае материи я всегда представляю себе протяжённость, непроницаемость, определённую постоянную инертность и безжизненность, так что она не способна изменять своё место или двигаться сама по себе, а только под действием другой, внешней силы.
Всё это – существенные признаки (essentialia) слова «материя» и, следовательно, взятые вместе, составляют её логическую сущность.
Субъективное основное понятие – это то, что содержится во внутреннем понятии о вещи. Однако оно ещё не доказывает, что в объекте могут быть и другие признаки, но я связываю с вещью только то, что представляю себе. Поэтому, например, у слова «материя» могут быть и другие свойства.
Логическая сущность – это субъективное основное понятие. Однако это понятие имеет силу только для меня, а не для других. Другой человек может представлять себе вещь с большим или меньшим количеством признаков.
Сущность нашего понятия – это не всегда, да и редко, сущность самой вещи.
Логическая сущность гораздо меньше реальной сущности. Логическая сущность – это сконцентрированное основное понятие вещи; оно включает в себя только то, что мы представляем себе в вещи.
Это сведение, сочетание понятий действительно очень полезно и даже необходимо для человеческого понимания. Он должен бережно обращаться со своими силами; однако такое сокращение (compendium) так же хорошо, как и развёрнутое понятие о вещи.
Реальная сущность включает в себя вообще всё то, что действительно может принадлежать вещи. Это выведение (eductio) – единственное средство сделать наши понятия действительно ясными.
Ясность же – одна из самых существенных логических совершенств. Благодаря ей моё познание становится гораздо более пригодным для употребления, а через реальную сущность оно расширяется.
Однако логическую сущность не следует смешивать с реальной. Ибо в моём понятии, которое я имею о вещи, я ещё не мыслю всего, что лежит в вещи и принадлежит ей или может лежать и принадлежать ей. Например, если мы возьмём понятие о материи, то новые философы обнаружили, что в сущности материи лежит ещё сила притяжения; это свойство я уж точно никогда не подумал бы сразу при слове «материя», и, возможно, материи принадлежат ещё гораздо больше признаков, которые ещё не открыты и которые познает только философ.
Отсюда видно, что в реальной сущности содержится бесконечно больше, чем в логической.
Мы не можем действительно познать реальную или объективную сущность ни одного предмета опыта или даже чувств. В лучшем случае нам возможно правильно понять логическую или субъективную сущность его.
То, что мы мыслим при слове о вещи, очень мало и незначительно, а часто и вовсе ничтожно, тогда как всё то, что действительно (revera) принадлежит вещи, часто неизмеримо и не может быть определено.
Таким образом, искать реальную сущность эмпирических понятий и предметов – это совершенно напрасное усилие. Зато можно представить логическую сущность разумных понятий и должным образом прояснить её.
Наши понятия, основанные на опыте, весьма изменчивы, потому что наш опыт ежедневно расширяется. Поэтому и логическое измерение также очень изменчиво, поскольку со временем к понятию о вещи прибавляется всё больше определений. Однако все моральные понятия суть чистые рассудочные понятия.
Существуют такие чистые рассудочные понятия, которые происходят не из опыта, а исключительно из чистого разума. Тот, кто хочет найти реальную сущность, должен знать все признаки, которые постоянно присущи вещи. Затем он должен искать и исследовать их основание, и это тогда и будет реальной сущностью. Например, тело, которое растёт благодаря внутреннему развитию, относится к логической сущности растения. Но основное понятие его постоянного определения есть реальная сущность, куда может также относиться и то, что растения порождают себе подобных.
Понятие о том, что вода есть жидкий элемент без запаха и вкуса, легче, чем ртуть, и т. д., есть логическая сущность воды, ибо, как только я приобретаю некоторые физические познания, я при слове «вода» сразу же думаю обо всём этом. Однако из этого я ещё долго не могу вывести все остальные свойства, которые присущи или могут быть присущи воде, и, возможно, ещё не все они открыты, хотя мы не всегда мыслим их при этом; следовательно, это ещё не реальная сущность.
Реальную сущность отдельных вещей мы никогда не можем указать, но можем это сделать для родов, например, для тела вообще.
Тем не менее, мы не знаем всех понятий и определений всех вещей, которые могут быть им постоянно присущи, и потому мы также не всегда в состоянии сразу указать истинное основание всех этих определений; следовательно, мы можем очень редко указать их реальную сущность.
§ 124
Здесь речь идёт о ясном и тёмном познании. Автор сначала говорил о смутных и отчётливых понятиях в первом разделе логики, не упоминая сначала о ясном и тёмном познании. Как же получается, что теперь он начинает говорить об этом?
Ответ: понятие о ясном и тёмном познании в начале логики есть нечто такое, что может быть принято без доказательства и потому должно быть предположено и положено в основу. Здесь же его можно вывести из ранее рассмотренного.
Здесь, таким образом, всё наоборот. Представление же является тёмным (чтобы вернуться к нашей теме), если мы непосредственно осознаём его. Опосредованно же можно осознать это познание при помощи разума, и потому остаётся путь сделать иначе тёмное познание ясным, отчётливым и тем самым облегчить его понимание. Например, невооружённым глазом я вижу в Млечном Пути лишь белую полосу; но если я воспользуюсь телескопом, то сразу же замечу отдельные его части как отдельные звёзды и тогда при помощи разума сразу заключу, что это должны быть те же самые звёзды, которые я видел невооружённым глазом лишь как белую полосу. Это представление я осознаю опосредованно, но не непосредственно; следовательно, оно сначала тёмное, а потом становится опосредованно отчётливым или ясным.
§ 125
Познание либо само по себе тёмное, так что, несмотря на все усилия, оно вовсе не может стать ясным, либо оно относительно тёмное, так что в одних обстоятельствах может стать ясным, а в других – нет.
Первое, само по себе тёмное познание, согласно его описанию, совершенно невозможно, ибо всё может стать ясным, как бы трудно это нам ни казалось, и то, что кажется нам самым тёмным, при исследовании оказывается всегда лишь относительно тёмным.
Логика предписывает нам правила, которые мы должны применять, чтобы знать, как поступать с познаниями, в которых мы осознаём, что действительно обладаем ими.
Всякая ясность есть верный путь к достижению отчётливости. Сама же ясность ещё не есть логическое совершенство, каковым является отчётливость. Логика, таким образом, уже предполагает ясность, она её супонирует, но не производит сама; она имеет дело с уже сделанными ясными познаниями и представлениями.
Отчётливость, следовательно, также не есть собственный предмет её занятий. Отчётливость (disjunctio) следует хорошо отличать от очевидности (dispieuitaet). Поскольку в познании имеет место ясность признаков, постольку познание отчётливо.
Но в perspicuum познание приводится лишь тогда, когда оно столь ярко и ясно, что даже самый слабый ум его понимает; напротив, imperspieua, или non perspieua, познание бывает тогда, когда оно слишком велико для всего горизонта всего человеческого рода, когда оно может быть названо непостижимым. Perspieuitaet же означает не что иное, как постижимость.
Часто познание в той степени, в которой оно должно стать по-настоящему отчётливым, перестаёт быть постижимым. Однако этого нельзя избежать, если вообще не говорить о предмете.
Возвращаясь к различию ясного и тёмного познания, мы должны далее заметить: все тёмные познания могут быть:
a) объективно
B) субъективно
тёмными; если говорить точно, то первое не имеет места, а лишь последнее.
Однако если отношение вещи к границам человеческого познания таково, что она не может быть познана достаточно ясно, а всегда остаётся тёмной, то большей частью винят не того, кто не может познать вещь достаточно ясно, а саму вещь или того, кто её излагает. Хотя чаще вина лежит на первом, а не на последнем. Тогда называют это познание, которое кто-то не понимает и не может понять, объективно тёмным. Субъективно же тёмным познание бывает тогда, когда вина за то, что вещь, несмотря на все усилия, остаётся тёмной, лежит не на самой вещи и познании, а на том, кто хочет что-то познать, а именно потому, что он либо обладает большим невежеством и потому естественным образом не в состоянии познать вещь, либо потому, что он не приложил достаточного усердия, необходимого для этого.
Последняя тёмнота, однако, вообще не коренится в природе самого познания или, как некоторые полагают, всех людей и их разума. Ибо если бы это имело место, то познание не могло бы быть ясным ни для одного человека, а дело лишь в неспособности и невежестве или в нерадивости того или иного индивидуального субъекта.
Потому и выходит, что одно и то же познание, которое для одного субъекта ясно, для другого тёмно, и, наоборот, то познание, которое для одного субъекта тёмно, для другого может быть ясным.
Мало кто вообще имеет правильное понятие о том, что значит иметь правильное ясное понятие о вещи или познании.
Никто, так сказать, не может понять самого себя достаточно хорошо; он всегда судит, что всё, что он говорит, ему совершенно ясно, и именно потому он удерживается от того, чтобы как следует исследовать, понимает ли он себя правильно или нет.
Метафизика и мораль – эти чистые науки философии – таковы, что человек никогда не в состоянии представить себе малейшее понятие в них отчётливо, если он прежде не может приобрести полное и совершенное понятие о целом, т. е. о всей науке.
Либо у того, кто хочет изучать метафизику, есть совершенно чистое, совершенно отчётливое понятие о ней, либо он не знает о ней вовсе ничего. Эти два пути единственны. Среднего здесь нет.
Напротив, кто-то может быть очень понятным, особенно если он ещё ничего не знает или не знает заблуждений, и тот, кто его слушает, уходит от него таким же умным, каким пришёл; это очень легко, и такое изложение, которое ничему не вредит, но и ничему не помогает, может быть очень понятным и доступным.
Таким образом, в некоторых случаях невозможно соединить лёгкую постижимость с полной отчётливостью, и те, кто считает самое лёгкое изложение лучшим, а несколько более трудное, менее детское и предназначенное для размышления изложение – тёмным, непонятным и даже преувеличенным, несомненно судят неправильно.
Сделать тёмное ясным так трудно, что ещё никто не изобрёл общезначимого средства для этого.
Обстоятельность есть достаточность познания для определённой цели. Последовательность, если она служит для достижения цели и для суждения, называется намерением.
При всякой completudine мы сравниваем познание с определённой целью. Эта completudo бывает:
a) внешней, которая проявляется в сравнении познания с другими,
B) внутренней, которая имеет место сама по себе и лежит в самом познании.
Сравнительная completudo может быть нам столь полезна, что мы вовсе не нуждаемся в абсолютной или внутренней completudo и можем обойтись без неё. Обстоятельность же основывается исключительно на множестве координированных или сопоставленных признаков.
Философия имеет целью научить нас тому, как нам лучше понимать самих себя.
Все новые познания, сильно отклоняющиеся от обычного способа суждения, сначала совершенно тёмны и не понимаются даже лучшими умами, и это часто происходит не потому, что сами познания по себе тёмны, а потому, что вообще очень трудно отклониться от обычного способа суждения и наблюдать ту или иную вещь с другой стороны. Кто, например, учился танцевать у плохого учителя и потом начинает учиться у умелого, тому действительно очень трудно отвыкнуть от раз усвоенных старых шагов и движений ног и следовать новой, лучшей методе. То же самое происходит и с познанием: всё, что отклоняется от старого, раз усвоенного способа познания, изложения, манеры письма и т. д., трудно понять и темно.
Все изобретатели новых методов во всех науках потому сначала темны; более того, по той же причине, что старое слишком любят и не хотят от него отказываться, их часто даже презирают – до тех пор, пока не привыкнут со временем и к этой новой методе; тогда обнаруживают, что она часто гораздо лучше старой.
Локк и Ньютон испытали эту судьбу: их сочинения сначала казались чрезвычайно тёмными и непонятными или по крайней мере таковыми казались, пока их не рассмотрели ближе и не открыли их преимущества.
§ 131
Учение о тёмных познаниях вовсе не логично, а лишь метафизично. Логика не есть наука о природе субъекта, человеческой души, чтобы познать, что в ней собственно скрыто; она уже предполагает ясные понятия и занимается употреблением нашего рассудка и нашего разума.
В нашей душе уже действительно скрыты все познания, и собственно не нужно ничего более, как только развить эти познания и вывести их на более яркий свет.
Рациональная философия не учит нас ничему новому, а лишь старается сделать отчётливым то, что мы уже знаем, и принести нам сознание этого.
Эмпирическая же философия, напротив, занимается тем, чтобы принести нам новые познания, которых мы до сих пор не знали.
§ 132
В этом параграфе автор говорит о полной ясности.
Полнота же бывает:
1) Внешняя
2) Внутренняя.
Первая состоит в том, что признаки, приписываемые вещи, достаточны, чтобы отличить её от всех других вещей.
Вторая же – в том, что признаки вещи достаточны, чтобы вывести из них все остальные возможные её определения.
Внешняя полнота всегда предполагает внутреннюю полноту: где нет последней, там наверняка нет и первой. И наоборот, первую, то есть внешнюю полноту, можно достичь посредством внутренней полноты. Непосредственно я не могу знать, что вещь и её признаки достаточны, чтобы отличить её от всех других вещей, – это должно происходить через внутреннюю полноту.
Таким образом, внутренняя полнота – не только средство для внешней ясности, но и последняя не может быть достигнута без первой.
Ни одно эмпирическое понятие не может быть внутренне полным.
Следовательно, внутренняя ясность не встречается у объектов опыта. Отсюда сразу же следует, что и внешняя ясность не может быть обнаружена у объектов опыта, ибо внутренняя всегда является её основанием.
Например, у металлов, трав, растений и т. д. я не могу познать вещь во всех её определениях и, следовательно, также не всегда могу отличить её от всех других вещей.
Во многих книгах по физике можно найти определения объектов опыта. Но верно то, что они никогда не бывают и не могут быть правильными и достаточными, ибо каждое определение должно быть полным.
Таким образом, никто не может получить полное понятие об объектах опыта, которое позволило бы отличить их от всех других возможных и действительных вещей.
Поэтому Локк старался показать, что никто, как бы учён он ни был, не способен дать правильное определение человека. Отсюда ясно, что все наши понятия об объектах опыта никогда не могут быть абсолютно полными, хотя у них может встречаться сравнительная полнота, а именно когда признаки вещи достаточны, чтобы отличить её от всего, что мы до сих пор познали в опыте.
Чистые же понятия разума могут быть как внутренне, так и внешне полными.
У эмпирических понятий вещи вне нас являются первообразами (exemplaria), а наши понятия – их отображениями (exemplata).
У чистых же понятий сами понятия являются первообразами, а то, о чём мы имеем понятия, – их отображениями. Например, понятие добродетели, права и неправа, доброты, правомерности и неправомерности действий, простого и сложного, случайного и необходимого.
Эти понятия вовсе не происходят из объектов, поэтому я не могу представить их определения даже отчасти – они произвольны.
Разум – творец этих понятий, и потому вещь не имеет иных определений, кроме тех, какие разум ей приписал.
Математика относится к этому разряду: она имеет исключительно чистые понятия разума, которые поэтому могут быть полностью внутренне и внешне полными. Например, математик мыслит конус, или прямоугольный треугольник, вращающийся вокруг своего катета или одной из своих сторон. Здесь он мыслит всё, что требуется, чтобы отличить вещь от всех других, ибо конус – не вещь вне его, которую он познал отчасти по некоторым определениям, а вещь в его чистом разуме, которую он произвольно сам мыслит и приписывает ей определённые определения, желая, чтобы вещь можно было отличить от всех других вещей.
Таким образом, полными являются только чистые понятия разума, но не объекты опыта, что ясно из сказанного выше.
Следовательно, никто не должен пытаться определять эмпирические понятия, зато можно иметь правильные определения чистых понятий разума.
§ 133
Здесь автор говорит о познании, которое бывает полностью или отчасти ясным, полностью или отчасти отчётливым.
Представления полностью ясны, если вещь, которую я мыслю, состоит не из большего числа определений, чем те, которые я при этом представляю. Представления же отчасти ясны, если я мыслю не все и каждое определение вещи, а лишь некоторые из них.
Некоторые древние философы поэтому разделяли понятия на rationes archetypos (первообразы) и ectypos (копии). Первые следует рассматривать как первообразы и оригиналы, вторые – как копии и отображения.









