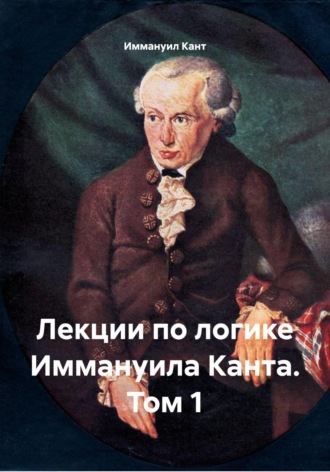
Полная версия
К первым относятся чистые понятия разума, ко вторым – понятия опыта. Первые могут быть полностью ясными, вторые же, напротив, никогда не бывают полностью, а всегда лишь отчасти ясными.
Например, если я вижу перед собой дом и не могу обойти его вокруг, то дом для меня лишь отчасти ясен, а именно в отношении стороны, которую я видел; остальное совершенно темно.
В понятиях опыта я всегда познаю лишь те определения вещи, которые воздействуют на наши чувства и которые мы осознаём.
§ 135
Живость и сила познания не противоположны, а связаны друг с другом. Живость – это эстетическое совершенство. Отчётливость же, рациональность или, скорее, глубокая отчётливость – это логическое совершенство.
Чем глубже отчётливость познания, тем более убывает его живость; и наоборот, чем живее познание, тем оно поверхностнее.
Живость в познании достигается с помощью большого количества связей. Отчётливость же в познании достигается тогда, когда стараются произвести её посредством большого разделения.
Через координированные признаки мы делаем познание живым, через субординированные – глубоко отчётливым.
Распространённая отчётливость сочетается с живостью познания, глубокая же отчётливость, напротив, – с его сухостью.
Например, при описании весны я представляю его живо через множество координированных признаков. Так делает поэт: он показывает, например, распускающиеся цветы, молодую зелень лесов, резвящиеся стада, обновлённые лучи солнца, прекрасный приятный воздух, оживление всей природы.
Во всём красноречии и поэзии стараются приводить координированные признаки, которые непосредственно замечают в описываемой вещи, чтобы сделать понятие о ней живым.
Этим достигается эстетическое совершенство в познании. Философ же, представляющий вещь через глубокую отчётливость, выделяет лишь один признак вещи и опускает остальные, но ищет признаки и основания признаков, которые он мыслит о вещи. Таким образом, его разум здесь преимущественно занят.
Форма познания совершенно иная, когда представляют вещь через субординированные признаки, чем когда представляют её через координированные.
Эстетика занимается лишь тем, чтобы изображать вещь и делать её ясной через координированные признаки. Разум же восходит от одного признака к другому и потому опускает многие координированные признаки, отчего познание становится сухим.
Поэт и оратор познают многое в немногом. Философ же, напротив, рассматривает множество предметов и познаёт в них мало. Его познания всеобщи: они направлены не только на отдельные объекты, но и на целые их роды. Он представляет себе лишь некоторые признаки, но через глубокую отчётливость.
Разумная отчётливость – это отчётливость a priori, которую я познаю через признаки a priori.
Через распространённую отчётливость мы познаём объекты без необходимости пользоваться разумом, без рассуждения.
Для глубокой отчётливости же необходимо требуется разум.
Для живого познания требуется чувственность. Чувственность – это совершенство познания, когда мы представляем вещь так, как объекты чувств.
Рациональность присуща вещам, поскольку мы мыслим их через общие понятия. Чувственность же – поскольку мы представляем вещь через единичные понятия.
Всякая чувственность порождает живость. Рациональность же порождает сухость.
Наши разумные понятия приобретают чувственность, когда мы представляем себе общие суждения конкретно. Это происходит, например, через примеры и подобия.
Чувственность познания вовсе не является его несовершенством: мы мыслим при этом общее, что уже усмотрели в абстрактных познаниях, в тех конкретных случаях, где оно действительно встречается.
Распространённая ясность познания, соединённая с чувственностью, порождает живость.
Наш рассудок здесь как бы постоянно колеблется между скалами: если мы стремимся познать что-то с эстетическим совершенством, то вскоре упускаем верные основания, солидность в познании, и впадаем в поверхностность. Если же мы, напротив, познаём что-то через логическое совершенство, то легко упускаем эстетическую живость и впадаем в сухость. Действительно, очень трудно найти верную середину между этими двумя опасными крайностями.
Тем не менее возможно соединить оба совершенства в высокой степени.
Ясность познания, как и его полнота (completudo), бывает:
A) Экстенсивной
B) Интенсивной
Экстенсивная ясность основывается на множестве координированных признаков, непосредственно познаваемых в вещи.
Она – верный путь к живости, ибо несёт с собой много чувственности, которая как раз состоит в координации признаков.
Совершенство всех наших познаний заключается в том, чтобы придать им в конце чувственность, то есть представлять общее в особых обстоятельствах и случаях и мыслить абстрактное конкретно, в единичном чувственном случае. Например, когда я представляю дружбу, истинную любовь и вытекающую из них взаимную услужливость у Дамона и Финтия. Здесь я мыслю общее в единичных случаях. Этим моё познание становится живым. Например, когда я представляю патриотизм у Катона.
Без чувственности наше чистое разумное познание весьма скудно.
Для распространённой ясности и живости требуется лишь рассудок, ибо при координированных признаках я лишь сужу.
Интенсивная же ясность основывается на субординированных признаках, и для неё необходимо требуется разум, ибо мы при этом умозаключаем и выводим один признак из другого.
Экстенсивная ясность служит для описания предмета.
Интенсивная же ясность исследует основания вещи: она ищет из одного признака, присущего вещи, вывести другой, который также должен ей принадлежать, то есть стремится найти причины вещей и постоянно спрашивает: «Почему? Почему это? Почему также то? Да почему это не иначе?»
Чувства дают нам живое, но не вполне отчётливое познание.
Тот, кто может полностью и по порядку рассказать всё, что когда-либо видел, обладает большой живостью познания и может часто вызывать живое познание в других через это повествование.
Чувственная ясность – не что иное, как живость. В созерцании ясность – это чувственная ясность. Ясность через общие понятия – логическая ясность.
Математика – единственная наука, которая способна судить по своим понятиям.
Тот, кто в своём познании способен соединить как живость, так и глубокую отчётливость, действительно уже достиг величайшей степени совершенства человеческого познания. Но это так трудно, что кажется почти невозможным для каждого.
Через чувственность совершенство разума ничуть не теряется, а, напротив, приобретает лишь большую живость.
Отсюда мы видим совершенно ясно, что чувственность вовсе не противоречит совершенству разума, а во многих случаях даже способствует ему и часто придаёт большую правильность, ибо в абстрактном мы часто упускаем и должны упускать такие признаки вещей, которые действительно принадлежат к их природе, но могут быть восстановлены, когда рассматривают вещь конкретно. Поэтому ораторы и поэты часто могут быть весьма полезны философу.
Самое общее правило хорошего, особенно учёного изложения таково: соединяйте изложение с чувственностью и придавайте своему учению чувственность.
Логическая ясность основывается на субординации, чувственная же ясность – на координации признаков.
Точно так же мы можем иметь:
A) Чувственную отчётливость по эстетическим законам
B) Логическую отчётливость по логическим законам
Мы часто должны абстрагировать, но это действительно даётся нам очень трудно.
1) Чувственная отчётливость по законам эстетики – не что иное, как отчётливость созерцания.
2) Логическая же отчётливость по законам рассудка и разума, или логики, – не что иное, как отчётливость рефлексии.
Нечто может быть живым, но оттого менее отчётливым. И вновь: нечто может быть искусным, ярким и живым, но при этом всё же мало отчётливым и смутным.
§ 139
То, что наше познание, как утверждает автор, становится ясным только через расчленение, – ложно.
Наше познание может быть сделано ясным двумя способами:
a) через синтез,
b) через анализ.
Однако здесь мы должны четко различать науку о том, как сделать ясное познание, от науки о том, как сделать ясным познание, которое прежде было смутным.
Мы либо создаем ясное понятие (что происходит через синтез), либо делаем ясным понятие, которое прежде было запутанным (что происходит через анализ).
При синтезе мы как бы порождаем и создаем понятие, которого прежде вообще не существовало, совершенно новое как по материи, так и по форме, и сразу делаем его ясным.
Все понятия математиков относятся к этому типу – например, понятия треугольника, квадрата, круга и т. д.
Все понятия, созданные разумом, сразу являются ясными, но только через синтез.
Если понятие должно быть сделано ясным через анализ, то оно уже должно быть дано. В этом случае мы занимаемся тем, чтобы прояснить и сделать ясным запутанное и темное в этом данном понятии, развить его, разложить и таким образом осветить.
Сюда относятся, например, все понятия метафизики.
Здесь нужно просто осознать признаки, которые принадлежат вещи – например, в понятиях добродетели, порока.
Нам не нужно ничего больше, кроме как анализировать, разлагать и расчленять, чтобы сделать запутанные понятия ясными.
Таким образом, материя уже есть – нам нужно лишь придать вещи форму.
С помощью аналитической ясности мы узнаем в вещи не больше, чем уже думали о ней прежде, но лишь то, что уже действительно знали, только лучше – то есть яснее, отчетливее и с большим осознанием.
Например, в понятии совершенства я сначала приведу случаи, в которых человек употребляет слово "совершенство", чтобы научить его: что он собственно понимает под совершенством? Какое понятие он себе об этом составляет? Что он думает, когда произносит слово "совершенство" и приписывает его вещи?
Здесь он естественно обнаружит, что называет совершенным многое, что на самом деле очень несовершенно или даже порочно.
Например, сластолюбец считает свою похоть величайшим возможным совершенством, ибо если бы это было не так, он бы не предавался ей так сильно и не находил бы в ней такого огромного удовольствия, затмевающего все остальное.
Таким образом, расчленение направлено именно на прояснение запутанного.
Составление же познания, или синтез, служит исключительно для того, чтобы произвести что-то новое и одновременно сразу сделать это ясным.
Вообще все понятия человеческого разума делятся на:
1) conceptus dati (данные понятия),
2) conceptus facti (созданные понятия).
Conceptus datus (данное понятие) – это то, которое производится либо природой нашего разума, либо опытом.
Conceptus facti (созданные понятия) – это те, которые произвольно порождаются или выдумываются нами, не будучи данными заранее.
Все эти выдуманные понятия сразу возникают с ясностью.
Здесь мы произвольно что-то выдумываем и сразу осознаем это.
Таких conceptus facti много в эстетике и математике.
В философии же встречаются conceptus dati.
Одно лишь расчленение не делает познание ясным, ибо действие, которым познание становится ясным, – это то же самое, которым становятся ясными его признаки.
Познание может получить ясность разума через анализ, но также и ясность рассудка через анализ.
Через расчленение я лишь подвожу признаки познания под более общие признаки, которые я уже постигал а priori через анализ.
Через синтез же я узнаю новые признаки познания а posteriori – например, в понятии о сущности золота.
Это эмпирическая ясность.
Та же ясность, которая имеет свой источник в разуме и достигается через расчленение, – это ясность рассудка.
Например, мораль – не что иное, как разложение наших нравственных представлений о добродетели, добре и зле.
Сократ говорил: "Я – повивальная бабка мыслей моих слушателей".
Создавать познание значит выдумывать.
Теперь мы кратко укажем степени представлений всякого познания:
1) Вообще представлять себе что-то – это самая общая, обычная и легкая степень познания вещи.
Представлять себе что-то с осознанием отличается от простого представления, при котором мы часто даже не осознаем, к чему именно относятся эти представления.
Sibi aliquid repraesentare id est cognoscere. Repraesentatio.
2) Но если к такому представлению присоединяется способность подвести то, что я себе представляю, под общее понятие и таким образом знать, к чему относится мое представление, – это вторая степень, а именно: знать.
"Я знаю то, что себе представляю".
3) Следующая степень – понимать что-то, то есть знать через рассудок или ясно знать через ясное понятие.
Природа дает нам много вещей, которые мы можем знать, но не в состоянии понять.
4) Постигать.
Многое в природе мы понимаем, но еще не постигаем – например, рост растений.
Постигать – значит познавать что-то через разум, то есть а priori.
Здесь вещь даже не обязательно должна быть дана.
Люди часто думают, что уже постигают что-то, если только могут дать этому объяснение.
Создавать познание (facere) – значит выдумывать (fingere).
Таким образом, conceptus factitius – это одновременно и conceptus fictitius.
Создавать познание произвольно и с осознанием – значит создавать ясное познание.
Все математические определения, например, просто выдуманы и являются не чем иным, как произвольно созданными ясными понятиями вещи.
5) Постигать что-то – это последняя и высшая степень.
А именно: постигать что-то разумом, но так, чтобы этого было достаточно для определенной цели – это сравнительное постижение.
Если же я постигаю что-то как достаточное для всех целей – это абсолютное постижение.
Многое, что я действительно понимаю, знаю и постигаю, я еще не постигаю полностью, и наоборот: многое, что я постигаю сравнительно, я еще не постигаю абсолютно.
Абсолютно, то есть достаточным для всех целей, мы не постигаем в природе вообще ничего.
Sufficientia notarum rei est completudo (достаточность признаков вещи есть полнота) и бывает:
a) внешняя – когда признаки, которые я имею о вещи, полны и достаточны, чтобы отличить ее от всех других; весь понятие о ней должен быть известен.
Таким образом, всякое внешне достаточное понятие также всегда внутренне достаточно.
И наоборот: внутренне достаточное понятие всегда внешне достаточно, а понятие, не достаточное внутренне, не достаточно и внешне, и наоборот.
Философия бывает либо чистой, либо прикладной.
В чистой философии все понятия даны рассудком и разумом – например, понятия возможного и невозможного, необходимого и случайного.
Все понятия либо:
1) чисто рациональные,
2) эмпирические.
Все понятия делаются ясными через расчленение, то есть через анализ, если они прежде были темными и запутанными.
Этим мы постигаем частичные понятия целого.
Ясное же понятие возникает через синтез.
При анализе понятие становится либо полностью ясным, либо нет.
Все мои разумные понятия могут стать полностью ясными, эмпирические же понятия исключены из этого и остаются всегда неполностью ясными.
§ 140
Здесь автор говорит о постижимом и непостижимом.
Чтобы лучше это понять, мы снова представим степени человеческого познания.
Это нельзя описать дальше и нельзя определить.
1-я степень – знать что-то, то есть представлять себе что-то с осознанием.
2-я степень – узнавать что-то, то есть отличать это от других вещей через сравнение с ними.
3-я степень – понимать что-то, то есть ясно познавать через рассудок.
4-я степень – постигать что-то или познавать через разум.
Если я что-то постигаю, то познаю это через опосредованные признаки – я делаю выводы и ищу notam notae (признак признака).
Чтобы что-то понять, должен быть задействован рассудок – я должен познавать вещь через непосредственные признаки, но также и судить.
Понять что-то гораздо легче, чем постичь, ибо в первом случае мне нужно лишь координировать признаки вещи, во втором же – подчинять их.
Чтобы понять, что такое золото, мне нужно лишь знать свойства этого металла – что оно ковкое, желтое, тяжелее других, не ржавеет и т. д.
Но чтобы постичь, что такое золото, я должен исследовать отдельный его признак и выяснить его основание – например, почему оно не ржавеет, почему ковкое, тяжелее других.
5-я и высшая степень нашего познания – постигать что-то, то есть постигать достаточно или в той степени, какая необходима для определенного понимания.
Можно постигать что-то либо абсолютно, либо полностью, либо частично – то есть относительно.
Я постигаю что-то абсолютно, когда понимаю это так, как требуется для той или иной цели.
Мы никогда не постигаем что-то полностью или абсолютно.
Даже самый ученый среди нас не может похвастаться, что постигает что-то так, чтобы этого хватало для всех целей.
Простой человек в вопросах религии, если у него есть здравый смысл, всегда постигает столько же, сколько величайший теолог – сколько ему нужно, чтобы жить праведно и направлять свои действия по законам Божьим.
Но этого все равно никогда не хватит для всех его целей.
Таким образом, в отношении практического совершенства познания мы все имеем одинаковое понимание, хотя и различаемся в логическом совершенстве.
При этом даже тот, кто имеет больше понимания и более разработанные познания, не постигает ничего абсолютно.
Автор ошибочно переводит слово "постигать" как concipere, тогда как concipere означает собственно "постигать".
6 степеней нашего познания, о которых мы уже говорили подробнее, скорее таковы:
1. repraesentare – представлять,
2. scire – знать,
3. noscere – узнавать,
4. intelligere – понимать,
5. concipere – постигать,
6. comprehendere – постигать полностью.
Часто то, что постижимо для одного человека, непостижимо для другого.
Что-то может быть для нас сначала непостижимым, но со временем легко постигается.
Однако часто можно ошибаться, думая, что другие хорошо поймут то, чего не понимаешь сам, и наоборот – считая, что то, что ты понимаешь, непостижимо для других.
Если я хочу сделать понятия о вещи ясными, мое представление о ней должно быть сначала отчетливым.
Затем я должен обратить внимание на различные признаки вещи, собрать многие признаки воедино, сравнить их между собой.
При этом сравнении происходит не просто сбор признаков, но и их сопоставление, координация.
Наконец, добавляется abstractio notarum – действие, в котором я оставляю без внимания все те признаки вещи, которые могут мешать или быть излишними для прояснения представления.
§ 144
В этом параграфе автор показывает различие ясного познания на cognitionem totaliter и partialiter distinctam (полностью и частично ясное познание).
Часто мы познаем объект частично ясно, а частично – неясно.
Многое в опыте очень скрыто от нас, в логике же встречается больше ясности.
Неясность возникает из-за недостатка внимания к частям целого понятия.
Причину этой неясности обычно приписывают либо самой вещи, о которой хотят ясного познания, либо лицу, в котором эта неясность находится.
Если вещь имеет слишком много признаков, так что их невозможно охватить сразу, причина неясности лежит в самой вещи.
В эмпирических понятиях всегда больше путаницы, чем в разумных.
Понятия опыта возникают через воздействие на наши чувства, но чувства не могут постичь все определения вещей – многие из них остаются скрытыми и неизвестными.
§ 147
Наши познания бывают либо:
1) адекватными, то есть полными, либо
2) неполными и неадекватными.
Согласно этому параграфу, автор называет вслед за Баумгартеном, а Баумгартен, в свою очередь, вслед за Вольфом, некоторый вид ясных познаний полным.
Если признаки вещи познаются вполне отчётливо, то это есть интенсивная ясность познания первого уровня; если же я познаю непосредственные признаки вещи отчётливо, но из них вывожу другие, опосредованные признаки, то эта отчётливость познания есть интенсивная ясность второго уровня и, по выражению Вольфа, полнота познания. Например, если я говорю: «Порок есть склонность ко греху».
Склонность же есть лёгкость в совершении действий. Грешить же означает не что иное, как жить вопреки моральным правилам и законам. Следовательно, порок есть склонность совершать действия, противоречащие нравственным законам.
Однако этот второй уровень интенсивной отчётливости познания никак не может быть полнотой, ибо тогда третий уровень отчётливости должен был бы быть ещё полнее, и так далее до бесконечности. Здесь всякое сравнение теряет смысл, и если нечто уже абсолютно полно, то нельзя найти ничего, что было бы ещё полнее.
Автор же назвал полное познание в несобственном смысле cognitio adaequata, а неполные познания – cognitiones inadaequatae.
Сама же полнота состоит не в чём ином, как в completudo (исчерпанности) и praecisio (точности).
Таким образом, познание является полным (cognitio rei adaequata), если представление о вещи соответствует ей в точности и соразмерно, так что оно не содержит ни больше, ни меньше, чем действительно заключено в вещи: Si repraesentatio rei de re quadam nec supra, nec infra rem est.
Всякая отчётливость через подчинение признаков имеет различные степени, и потому нельзя назвать познание полным до тех пор, пока его признаки не перестанут быть подчинёнными какому-либо другому понятию.
§ 149, § 151
Completudo, или обстоятельность, уже рассмотрена нами выше, а о praecisio мы поговорим впоследствии подробнее.
Completudo состоит не в чём ином, как в достаточности или удовлетворительности ясного понятия о вещи для выведения из него всех прочих её признаков.
Omnis cognitio sufficiens est:
a) extensiva – то есть обстоятельная,
b) intensiva – то есть основательная.
Для основательности требуется глубомыслие; сюда относится доказательство, достигаемое восхождением к высшему признаку многих взаимоподчинённых признаков.
В морали требуют полной основательности. Однако и здесь часто ошибаются. Например, в случаях так называемой necessitatis (крайней необходимости), благочестивого обмана и т. п.
Обстоятельность, собственно, состоит в том, что ничего не упущено, чтобы понятие могло быть цельным.
Однако даже при такой обстоятельности может встретиться ошибка, если моё понятие содержит больше, чем должно, чтобы быть полным.
Таким образом, добавляется ещё одно совершенство, заключающееся в том, чтобы в понятии содержалось ни больше, ни меньше, чем необходимо. Это совершенство называется соразмерностью, или praecisio.
Познание является соразмерным, если оно не содержит ни слишком много, ни слишком мало признаков.
Cognitio est praecisa, quando non abundat notis.
Praecisio же есть определённая степень признаков, при которой они содержат не больше, чем необходимо для выведения всех прочих определений вещи.
Придать познанию соразмерность требует больше усилий, чем довести его до избыточной обстоятельности, то есть сделать completum.
Praecisio – действительно великое и трудное искусство; это легко заметить на любых примерах, даже из опыта. Так, например, даже столь точный математик, как Архимед, не смог найти точного решения задачи о квадратуре круга. Все вычисления, произведённые до сих пор, таковы, что полученное число оказывалось либо слишком велико, либо слишком мало, и точного результата достичь не удалось.
Но чтобы достичь такой точности в философских понятиях, требуется куда больше искусства и умения. Полное и точное понятие, взятое вместе, соответствует вещи и называется conceptus adaequatus, cognitio rei adaequata.
Здесь с признаками дело обстоит так же, как с мерой. Мера соответствует вещи, если она не содержит ни больше, ни меньше, чем необходимо для измерения. Признак также соответствует вещи, если он не содержит ни больше, ни меньше, чем заключено в понятии о ней.
При completudo я забочусь о том, чтобы в познании не было недостатка, а при praecisio – чтобы не было избытка. Completudo, как легко понять, всегда гораздо необходимее, чем praecisio, ибо избыток в познании, хотя и является ошибкой, которую следует избегать, всё же переносится легче, чем недостаток.
Praecisio – совершенство лишь относительное, ибо служит лишь тому, чтобы экономно обращаться со своими знаниями и не растрачивать силы на излишнее, дабы затем не остаться без способности к другим, более полезным познаниям. Praecisio есть не что иное, как правило бережливости, отчего она обладает некоторой внутренней красотой. Она особенно присуща математике, геометрии и механике.
Избыток (abundans) в понятии возникает тогда, когда одно понятие уже содержится в другом, и всегда является следствием недостатка praecisio.









