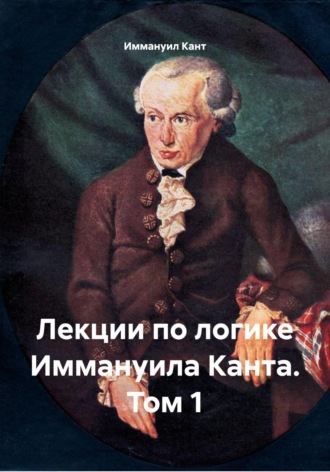
Полная версия
Если познание должно быть эстетически истинным, то в нем должно быть нагромождено очень многое и сразу приведено множество представлений. Например, если я хочу доказать гнусность того или иного поступка, я не стану указывать и доказывать его гнусность с моральной точки зрения, а, так сказать, отклонюсь в сторону: покажу, как скалы, деревья и проч. содрогаются перед этим поступком, как все трепещет, как небо окутывается мрачными тучами, чтобы не быть свидетелем этого отвратительного деяния. Тот, кто достигает такого или подобного познания, должен быть ослеплен его запутанностью. Отсюда и происходит, что суждения других людей уже достаточны для их достоверности.
§ 30:
Практическим познанием мы называем такое, которое оказывает влияние на нашу волю и, как следствие, на наши (подвластные воле) действия.
Из рассмотрения всех совершенств познания мы видим, что главные способности нашего познания суть следующие: 1) рассудок, 2) чувство и 3) желание.
Итак, если я делаю свое познание совершенным в отношении рассудка, то оно логически совершенно. Если я делаю свое познание совершенным в отношении чувства, то оно эстетически совершенно.
Наконец, если я делаю свое познание совершенным в отношении желаний, то оно практически совершенно, или же морально.
Моральное совершенство основывается на логическом и эстетическом совершенстве, взятых вместе. К логическому же совершенству относятся следующие три элемента:
1) ясность,
2) истина и
3) достоверность.
Но ясность есть первое и важнейшее свойство, особенно существенное для логического совершенства.
Истина и достоверность мало помогают, если они не ясны.
Главные же признаки эстетического совершенства суть:
1) истина,
2) достоверность и
особенно 3) обстоятельность.
Ибо в эстетически совершенном познание не ясно, а запутанно; однако, конечно, истина из-за запутанности и нагроможденности в познании не может встречаться в эстетическом совершенстве в высокой степени. Ведь оно занимает собственно не мою волю, а скорее только мой вкус. То же самое и с достоверностью: не всякая чувственная достоверность уже эстетически совершенна, а собственно только та, которая трогает наше чувство и льстит ему. Можно, например, обладать величайшими познаниями в географии и т.п., которые, хотя и совершенны, однако не эстетически совершенны, и именно потому, что они не трогают нашего чувства.
§ 31:
Автор здесь подводит итог и говорит, что мы должны делать наше познание одновременно логически и эстетически совершенным. Все наше познание, которым мы обладаем, должно иметь все возможные виды совершенств. Но кто может этого достичь? В каждой части нашего познания это может иметь место? Часто вовсе нет. Если я, например, хочу сделать книгу логически совершенной, то я не могу и не должен одновременно повсюду вводить эстетическое и практическое. А если, с другой стороны, я хочу сделать книгу эстетически или практически совершенной, то я не могу при этом повсюду думать о введении логически совершенного.
Многие богословские положения не связывают сразу нашу волю, поэтому мы можем многое опустить из логического и эстетического совершенства без ущерба для человека. Подобно тому как мудрый учитель скрывает многое прекрасное, что он знает, отрешается от него, если знает, что умы его слушателей устроены так, что они, привыкнув к умозрениям, могут отвратиться от практического. Точно так же в определенных случаях часто приходится отвлекаться от практического в том или ином деле. Многие вещи могут быть истинными и все же вредными для человека. Не всякая истина полезна. Однако несомненно и то, что весь вред, который, возможно, может когда-либо иметь истина, всегда лишь случаен. Так, бывают, конечно, рекомендации некоторых познаний и суждений, которые в конце концов могут перейти в подкуп, а также несправедливые осуждения, презрение, порицание других познаний или суждений без исследования того, каковы эти познания на самом деле. Поэтому, чтобы избежать этих обоюдных ошибок, при всяком исследовании познания следует рассматривать его совершенно отдельно от всех посторонних вопросов пользы или вреда, особенно если эта польза или вред нас самих интересуют, иначе пристрастие сразу искажает суждение и заглушает все хладнокровные рассуждения рассудка.
Мнение всегда было плодотворным источником всех заблуждений человеческого рассудка.
§ 32
Все действия людей совершаются из стремления к совершенству. Это совершенство достигается тогда, когда наше чувство удовольствия и неудовольствия бывает затронуто. Если предположить, что чувству предшествует разумное познание, то это – разумное удовольствие и чувство. Если же оно проистекает лишь из смутного познания, то это – чувственное удовольствие и чувство. В соответствии с обоими видами чувств мы должны совершенствовать наше познание.
То, что затрагивает наше разумное чувство, логически совершенно, например, если я радуюсь основательному обучению. То же, что затрагивает наше чувственное чувство, эстетически совершенно.
Вообще, горизонт нашего познания, практически определенный, гораздо уже, чем горизонт познания, определенный логически.
§ 33
Здесь автор показывает, как логические совершенства могут быть соединены с эстетическими. Например, логические совершенства можно найти у Вольфа и в других сочинениях, но никаких эстетических. В красивых же книгах, напротив, находят меньше логических и гораздо больше эстетических совершенств. Однако авторы таких книг занимают низший ранг. Все, что нас возбуждает и трогает, служит во вред нашей способности суждения.
Эстетическое совершенство, особенно волнения и возбуждения, во многом противоположно логическому, поскольку первое касается чувственности, а второе – абстрактного. Однако во многих случаях оно требуется наряду с логическим совершенством, а именно для того, что относится к чувственному эстетическому созерцанию.
Кто хочет истинно и прочно убедиться в истинности своих положений, тот должен воздерживаться от всякого чувства, впечатления, возбуждения и нарочитой красоты, чтобы читатель не подумал, что он хочет лишь уговорить его, обмануть и льстить ему, чтобы тот одобрил его положения, потому что он не в состоянии их доказать.
§ 34
Все познание, которым мы обладаем, должно быть и логическим, и эстетическим. Поэтому если мы хотим увеличить логические совершенства, мы не должны уничтожать эстетические. Далее, если мы хотим способствовать красоте познания, мы не должны полностью пренебрегать логическим. Поэтому, если хотят одновременно развивать свой ум и вкус, не следует читать только комедии, романы, галантные истории и тому подобные книги, в которых хотя и есть красивые и эстетические познания, но вовсе не встречается логических совершенств. Хотя ими и затрагивается чувство и утончается вкус, но несомненно, что ум от этого страдает, он притупляется и делается бесполезным.
У детей следует начинать с чувственного. Географию можно преподавать им так, чтобы они при этом постоянно ощущали и были тронуты. Так, вместо того чтобы заставлять их заучивать названия наизусть, лучше рассказывать им о достопримечательностях моря, об особых обычаях чужих народов и т. д., а не просто, как это обычно делается, показывать на карте, не отмечая ничего примечательного: это – Париж, это – Лондон и т. д. Из истории, в свою очередь, можно рассказывать им о событиях, которые произошли, самым живым и трогательным образом, так чтобы их чувства и желания через это улучшались. В более зрелые годы можно начинать с ними различные умственные упражнения, можно давать им самим читать искусно подобранные стихи и хорошие речи и размышлять над ними.
Но не следует, как это обычно бывает в школе, принуждать их к ораторскому искусству, когда они часто еще не умеют думать, что впоследствии не приносит им никакой пользы, кроме того, что они это забывают. Ибо то, что пришлось изучать неохотно или даже под принуждением, забывается очень быстро и само собой. Сухие познания, которые так любят, как, например, называние имен мест, императоров, годов и т. д., в высшей степени портят молодежь. Ребенок учит это с досадой и не удерживает в памяти, а только из страха перед наказанием старается вызубрить свой урок и т. д. Чтобы то, что он однажды выучил, оставалось в его памяти, – это вовсе не его намерение. Если ему даже сказать, что иначе он не может быть и стать счастливым, он все равно не обратит на это внимания, он еще совершенно бескорыстен и доволен лишь своим настоящим удовольствием, поэтому ненавидит все, что хочет его уменьшить. Естественно, он будет удерживать и стараться удержать только то, что ему нравится и трогает его чувство. Если все будет преподаваться таким образом, то он все охотно и с удовольствием сможет удержать в памяти.
Быть правдивым – величайшая добродетель в мире, на которой основываются все остальные, и все остальные добродетели без правдивости на деле – не что иное, как притворство. Эту добродетель поэтому следует прежде всего преподавать детям и одновременно приучать их к ней везде, где еще не словами, так хотя бы мимикой.
Прежде всего следует стараться внушить детям сильное отвращение ко всякой неправде, под каким бы предлогом ее ни оправдывали, как, например, к гусенице или другому насекомому. Впоследствии они постепенно привыкнут в своей жизни так же мало лгать, как брать в руки гусеницу. Они всегда будут честными и ненавидеть всякое возможное притворство.
Далее, каждый человек имеет естественное и, так сказать, врожденное стремление к благожелательности. Как мы радуемся, когда можем рассмешить другого своими выдумками, так мы радуемся еще больше, когда делаем других через нас счастливыми или просто доставляем им радость, удовольствие и т. д. (лишь немногие злые натуры, которые желают несчастья своим ближним или даже способствуют ему, составляют исключение). Это также нужно суметь сохранить у ребенка. Дают, например, ребенку что-нибудь, чтобы он отдал другим детям, которые беднее, но не тогда, когда те, как нищие, просят об этом, так как они в нужде. Ибо этим приучают их только к состраданию, которое еще отличается от истинного милосердия. Нужно, чтобы ребенок делился с другими просто для того, чтобы давать, потому что это красиво и похвально – делиться тем, что у тебя есть, потому что те это заслуживают, даже если они не просят или не имеют сердца просить.
Если ему столько привьют через чувство, то это несомненно улучшит его моральный характер, и он будет получать удовольствие от моральных рассказов.
Когда этого достигли, можно учить его читать, тогда он сам поймет, чем ему поможет умение читать, у него самого появится к этому желание, он будет стараться как можно скорее приобрести это умение, так как чтение дает ему возможность самому читать письма, стихи, моральные происшествия и другие хорошие книги и впредь не нуждаться в том, чтобы просить других что-нибудь ему рассказать. Когда это произойдет, следует стараться способствовать его историческому познанию, потому что оно должно лежать в основе разумного. Не следует обременять его огромным количеством имен, от этого он, естественно, не видит никакой пользы и, следовательно, не имеет к этому никакой охоты.
Нужно излагать истории морально, тогда они ему понравятся, и он будет рассматривать имена лишь как побочные вещи, но тем не менее удерживать их в памяти.
Наконец, следует стараться расширять и развивать его разумное познание, сообщать ему основания, когда он спрашивает причину чего-либо, но не обременять его отдаленными основаниями. Если он спросит, почему на том или ином поле не растет хлеб, следует сказать ему, что потому, что оно песчаное и т. д., но не давать пространного объяснения о плодородии, это ни к чему не служит, а только запутывает его ум.
§ 35
В этом параграфе автор говорит, что нужно оставлять малые совершенства, если через них препятствуют большим. Малым эстетическим совершенствам следует предпочитать большие логические, а большим эстетическим – малым логическим совершенствам.
Если следовать этому правилу, то можно будет писать логически и в то же время эстетически красиво и выражаться в изложении.
§ 36
Противоположность всякого совершенства всегда двояка, а именно: или противоречащая противоположность, когда совершенство только отсутствует, или, во-вторых, реальная противоположность, которая совершенно уничтожает совершенство, которое могло бы быть по какой-либо другой причине. Примером первого могут быть, например, такие лекарства, которые совсем не помогают, но и не вредят, такие можно часто прописывать, их удобно сравнивать с противоречащей противоположностью исцеления. Те же лекарства, которые не только не приносят пользы, но даже вредят, имеют реальную противоположность исцеления. Точно так же обстоит дело и с познаниями.
Несовершенство, которое является противоречащей противоположностью, называется недостатком, а несовершенство, которое является реальной противоположностью совершенного, называется ошибкой. Так, например, незнание бессмертия человеческой души – противоречащая противоположность, тогда как заблуждение, когда даже считают, что человеческая душа не бессмертна, – реальная противоположность познания бессмертия души. Для незнания не хватает только оснований, ему поэтому легко помочь. При заблуждении же имеются действительные основания, которые противопоставляются истинному познанию как контраргументы.
Ошибки (vitia) поэтому следует гораздо больше избегать, чем недостатки (defectus). Ведь гораздо хуже, если я уничтожаю то, что уже действительно доказано другими основаниями, чем если я еще ничего не знаю, потому что в последнем случае меня скорее можно научить, чем в первом. Например, тот, кто что-либо совсем не определяет, может обходиться уже своим обычным познанием, тогда как если он делает ложные определения и затем применяет их, то из этого возникает гораздо больший и более важный вред, который при недостатке не мог бы возникнуть. При ошибках (vitiis) познание не только не увеличивается, а скорее уменьшается, но даже то, что уже есть, действительно уничтожается.
§ 37.
Обыденное и историческое познание может быть гораздо совершеннее учёного; их следует рассматривать как разнородные, но можно сравнивать и по степени совершенства, например, насколько они ярки, плодотворны и т.д. Под историческим познанием мы понимаем не эстетическое, а просто сухое знание. Такое сухое знание, например, о жизненных обстоятельствах и событиях человека, гораздо плодотворнее и обширнее, чем учёное.
Математик, обладающий обширными знаниями, на практике в своей инженерной науке не продвинется так далеко, как другой, который не изучал теорию, но приобрёл лишь историческое знание о самой практике.
Например, Макиавелли обладал обширным учёным знанием о том, как выстроить целую армию в боевой порядок, но когда ему однажды действительно поручили командовать армией, он вместо того чтобы её упорядочить, привёл всю армию в беспорядок, потому что не имел исторического знания о сопутствующих обстоятельствах.
Во многих случаях учёный со своим солидным знанием на самом деле добивается гораздо меньшего, чем другой, чьё знание исторично, потому что первое не так общеполезно, как второе.
§ 38 и 39.
Руссо полагает, что науки принесли больше вреда, чем пользы. У нас есть способности, которые гораздо больше, чем необходимо для этой жизни. Наши теоретические способности сильнее, чем практические. Первые мы можем совершенствовать больше, чем последние, отчего возникает диспропорция, уродство, при котором голова слишком велика по сравнению с остальными частями тела. Если бы нам нечего было ожидать в другой жизни, учёность, несомненно, принесла бы нам больше вреда, чем пользы. Ибо здесь мы часто за наши усилия получаем далеко недостаточные преимущества. Тем не менее, учёность уже и здесь доставила нам много преимуществ. Мореплавание, искусство управления и т.д., несомненно, без неё оставались бы ещё очень тёмными и несовершенными. Какова же великая польза от того, что только через неё, как через свет, рассеялся мрак суеверия и оно было так счастливо искоренено! Многие старухи теперь могут стареть с честью и заканчивать свою жизнь в покое, тогда как прежде они часто попадали под подозрение и даже должны были терять жизнь самым жалким образом.
Учёное знание рассматривает общее и потому даёт повод к изобретениям и улучшениям.
§ 40.
Если учёное знание одновременно прекрасно, то оно самое полезное и пригодное, особенно на практике. Известно, как знание схоластов, этих сухих философов, связанных очень натянутым методом, почти уничтожило моральные качества и способности людей и низвело их до суеверия. Непоправимая потеря! Всё это, однако, не могло быть иначе и происходило лишь оттого, что их знания, а следовательно, и их изложения морали и т.д. были только учёными, но не прекрасными, а скорее совсем сухими. Так вредно как прекрасное, но не учёное, так и учёное, но сухое знание.
Второй разделО широте учёного знания§ 41 и 42.
Широта учёного знания противопоставляется его скудости. Последняя касается либо материального, либо формального. Если кому-то недостаёт исторического знания, он находится в полном неведении. Так, например, древние были в полном неведении о существовании Нового Света, у них не было исторического знания об этом. Простой народ и теперь в отношении многих вещей совершенно невежествен. Но можно также находиться в неведении относительно оснований вещи: если они нам совершенно неизвестны, так что у нас нет исторического знания о них. Например, если кто-то совсем не знает, откуда происходит гроза, дождь, снег и т.д.
Во-вторых, если кто-то совсем не усматривает связи вещи с её основанием, хотя основания ему известны. Например, если я знаю, что приливы и отливы имеют своей причиной Луну, но ещё не понимаю и не постигаю, как происходит, что приливы и отливы возникают от притяжения Луны.
§ 43.
Что касается невежества, то его можно разделить:
1) на необходимое и, напротив,
2) на добровольное.
Там, где нам не дано никаких данных, чтобы что-то выяснить, невежество необходимо. Например, выяснить, где будет человеческая душа после смерти тела, или о зарождающей силе животных и людей.
В-третьих, место, которое мы занимаем в мире, делает невежество для нас необходимым. Если же мы, напротив, по определённым мотивам добровольно отказываемся от некоторых вещей, так что не хотим знать их намеренно, если видим, что что-то слишком трудно или бесполезно для нас, то это – логическое невежество.
Логика – это скорее учение об уме, которое относится к юноше, учение же о мудрости относится к мужу.
§ 44.
Тот круг, в котором мы можем видеть вещи, называется нашим горизонтом. Совокупность всех вещей, которые человек может познать учёным образом без ущерба для остальных своих совершенств, есть горизонт учёного знания. То, что выше горизонта, можно понимать в географическом смысле. Здесь же оно должно означать такие вещи, которые нельзя познать, даже если бы кто-то и хотел, невежество о которых необходимо. О многих вещах у нас даже нет исторического знания, например, о радостях на небе, о тайнах, потому что они, возможно, не могут быть выражены нашими словами. О некоторых вещах мы часто находимся в неведении из-за наших слабых способностей, о других – в отношении обстоятельств, времени и места.
Мы определяем горизонт познания:
1) логически – только через способность, через меру наших сил;
2) практически – согласно целям.
Считают, что всегда лучше знать больше, чем нужно, и что лучше знать слишком много, чем слишком мало. Но всякое чрезмерное усилие ради какой-то цели излишне и плохо применено. Поэтому необходимо, чтобы все наши усилия соответствовали целям, которые мы себе раз поставили, иначе человек растрачивает капитал своих сил, который весьма ограничен. Мы говорим: что-то выходит за наш горизонт, если оно превосходит способности нашего познания.
Гораздо больше вещей находится выше учёного, чем выше исторического горизонта, так что первый гораздо меньше второго. Многое, что я познаю исторически, я не всегда могу познать учёно и прекрасно, например, о взаимодействии души и тела у меня есть историческое, но не учёное знание. Поэтому мы не должны браться за все предметы, но всегда помнить, что у нас есть горизонт в познании. Так, нет нужды и исследовать состояние души после смерти, которое выше нашего горизонта.
Очень трудно определить, что именно выше нашего горизонта. Хотя мне часто что-то кажется находящимся выше моего горизонта, так что я даже считаю это невозможным, со временем благодаря исследованию и усердию это может оказаться в пределах моего горизонта. Истинная философия ленивых – утверждать обо всех вещах, что они выше нашего горизонта.
Но если кто-то говорит: «Я могу что-то познать, но мне это не нужно, это для меня излишне или даже вредно, я не должен это познавать», – это значит то же, что «это выше моего горизонта». Горизонт определяется вкусом:
1) по вкусу человека;
2) по вкусу эпохи.
Но если верно, что большинство людей очерчивают свой познавательный горизонт только по вкусу, то это лишь поверхностное знание, чтобы казаться учёным во всём, обо всём судить учёно. Но это, так сказать, только пена познания, к которой относится и некоторая дерзость.
Наша эпоха почти такова, но вред от этого также неизбежен, а именно, что в конце концов все науки будут трактоваться лишь поверхностно, по верхам.
Чем более наука ограничена одной целью, тем более совершенства она может достичь.
В наше время можно подумать, что всё уже усовершенствовано и изучено. Женщины, вместо того чтобы заниматься грубыми домашними работами, теперь читают изысканные сочинения. Это называют начитанностью, в которой они ищут превосходства, но именно эта чрезмерная широта приводит к тому, что наука теряет свою ценность.
Логический горизонт в отношении наших способностей можно разделить на:
1. Исторический – наиболее обширный и таковым должен быть.
2. Рациональный – он весьма узок.
Исторический горизонт особенно важно развивать в юности, но при этом должна быть ясна цель, ради которой приобретаются исторические знания.
Полигистор – это тот, кто обладает всеми историческими знаниями всех возможных наук. Философия – это поле всех исторических знаний: богослова, физика… Полигистор собирает материалы для науки, его голова – настоящая библиотека. Но для полигистории особенно важна филология – наука об инструментах учености.
Чем совершеннее должна стать наука в своём роде, тем уже она становится. Те, кто обладают всеми историческими и рациональными знаниями, – это великие, универсальные умы, но таких крайне мало.
Каждый должен понимать, что, в соответствии со своими способностями (большими или малыми), он имеет определённый, соответствующий ему горизонт. Например, тот, кто знает что-то о геометрии (пусть даже немного), должен и может осознавать, что квадратура круга лежит за пределами его горизонта.
Наш познавательный горизонт меняется со временем: то, что сейчас находится за его пределами, может оказаться внутри, если я приобрету больше способностей и должным образом их разовью.
Обычно новичок думает, что ничего нет выше его горизонта, а всё – ниже, что он способен познать и разрешить всё. Но со временем он распознаёт иллюзию и учится ограничивать свой горизонт. Или же, наоборот, начинает считать, что всё слишком сложно и недостижимо.
Сколько есть так называемых «философов» только по имени, которые тщеславны из-за внешнего блеска и думают, что способны быть учителями философии, хотя это далеко за пределами их горизонта!
§ 46
Под горизонтом учёного познания вещи оказываются тогда, когда они недостойны нашего научного знания. Некоторые нелепые мнения древних философов даже не заслуживают того, чтобы мы их знали.
Однако в природе нет ничего самого малого, что было бы недостойно нашего исторического познания, разве только если мы сосредоточимся на нём настолько, что упустим более важное.
Заблуждения и методы также многое опустили ниже горизонта нашего познания. Например, исследование мочи из-за человеческих предрассудков сейчас считается почти неприличным, хотя оно весьма полезно для диагностики болезней.
§ 47
Вещи находятся за пределами горизонта нашего учёного познания, если они отвлекают нас от более важного. Для неограниченного разума ничего не может быть за горизонтом, но это относится лишь к ограниченному уму.
Мы должны бережно обращаться со своими способностями, чтобы применять их к важным вещам. Всё, что не относится к той науке, которую мы избрали для глубокого изучения, уже находится за нашим горизонтом – будь то выше или ниже него.
Увлекаться чужими делами в ущерб более важным – значит выходить за пределы своего горизонта. Исторический горизонт можно сделать очень широким, но редко что-то находится за его пределами, тогда как за пределами учёного горизонта – часто.









