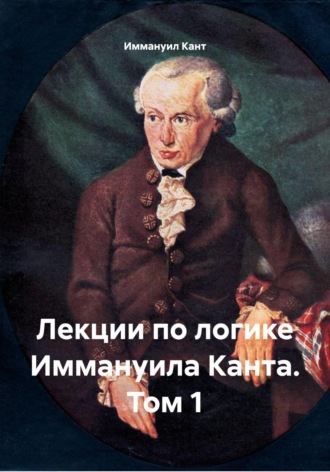
Полная версия
Если мы хотим разделить философию, то должны предположить, что действия нашей души состоят из познания, чувства и желания.
Наука, которая занимается употреблением разума, – это Логика.
Та, что говорит об общих объектах разума, – Метафизика.
Та, что занимается телесными объектами, – Физика.
Та, что рассматривает чувство, – Эстетика.
А наука, которая имеет дело с нашими действиями и желаниями, называется Мораль или Практическая философия.
Первая философия, без сомнения, началась там, где объекты не могли быть восприняты чувствами, и такими объектами, несомненно, были объекты религии.
История философииЧто касается истории философии, то здесь следует отметить следующее: у халдеев был философ Зороастр, и у персов также известен Зороастр, но совершенно отличный от халдейского. Философия халдеев была очень тёмной и неопределённой. (Таким образом, теология первой расширила мировую мудрость, см. стр. 44). Она восходит к глубочайшей древности, и то, что можно из неё извлечь, основано на весьма сомнительных сведениях. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не смешать учения древних с позднейшими вымыслами.
Религия этих народов была границей упрямого суеверия, грубым и отвратительным идолопоклонством. Жрецы обманывали глупый народ разными уловками, предсказаниями, колдовством, толкованием снов. Детские и разнузданные церемонии составляли всё их учение. Если и было что-то хорошее под этой грубой корой, то теперь уже невозможно это отыскать.
Эта мудрость выглядела как совершеннейшее безумие, но, должно быть, это было опасное безумие, ибо с первых времён Римской монархии искусства халдеев были запрещены как губительные и безбожные. Однако, несмотря на эту тьму халдейской философии, она была очень знаменита в древности. Её последователи делились на множество сект, таких как гиппаренцы, вавилоняне, орхениты, марсипены, борсиппениты и др.
Зороастр считается основателем магии, то есть отцом самого грубого и позорного суеверия среди всех обманов. Говорят, что он был убит огнём с неба. Жрецов, по преданию, обучал Бел астрономии и физике. Берос, Мармаридий, Забрат и Тевкр известны нам лишь по именам.
Вся философия древнейших народов сосредотачивалась у жрецов. Египтяне и персы, вероятно, были первыми, чей разум переступил свои границы и начал делать спекуляции. Астрология и космология возникли раньше, чем физические науки.
Самым первым объектом исследования было происхождение вещей, ибо это, без сомнения, самые важные вопросы, которые должны были сразу прийти в голову человеку после того, как он удовлетворил потребности своего тела. Однако, конечно, эти первые изыскания содержали больше суеверий, чем мудрости.
Одно можно сказать точно: пока философия в народе не отделилась полностью от власти правительства и управления духовенства, настоящая мудрость не могла возникнуть.
Автором персидской философии был Зердушт или Заратустра. Он жил во времена Вавилонского пленения; он был главой религии, свое учение он собрал в сочинении, называемом Зендавеста, его оракул – это книга, подложенная неоплатониками. Жрецы персов назывались магами, а их глава – архимагом. Учения их философии были следующими. Высший Бог – это интеллектуальный огонь: из него, чтобы произвести мир, вышли другие противоположные основные сущности и принципы. Главная сущность, от которой происходят все другие, от которой также зависит закон эманаций, называется Митра. Две основные сущности – это Оромазд, очень чистое, деятельное и благоприятное свет, и Ариманий, страдающая и материальная тьма, рожденная от ограничения и связанная с ним как необходимое следствие. Из смешения этих двух основных сущностей произошли все вещи под луной, и так следует объяснять происхождение зла на земле. Но придет время, когда тьма будет побеждена и уничтожена светом. По их мнению, душа происходила от богов и была, как они, бессмертной. Их нравственные учения рекомендовали целомудрие, честность, справедливость, воздержание от удовольствий. Они выражали это так: вы должны следовать свету и остерегаться чумы тьмы или порождения материи.
Среди китайцев мы отмечаем трех великих философов: Конфуция, Келау и Янцзы, которых они почитали в образе трехглавого идола. Они придерживались мнения Пифагора о переселении душ, поклонялись солнцу, луне и звездам, а нередко даже дьяволу, чтобы он не вредил им, поэтому они помещали его изображение на носовой части своих кораблей и носили устрашающие изображения на одежде. У китайцев вся философия – не что иное, как мораль, немного астрономии и математики, а также своего рода государственная наука и искусство управления. Конфуций был Солоном китайцев.
Среди иудеев до разрушения Иерусалима мы отмечаем несколько сект:
1. Саддукеи, которые произошли от Антигона Сохайского. Тот, раздраженный учением о добрых делах, посредством которых нельзя ничего заслужить у Бога, пришел к полной противоположности и сказал: нужно служить Богу без всякой надежды на будущее вознаграждение. Садок и Боэт неправильно поняли это учение, поэтому они отрицали воскресение тел и все вознаграждения после этой жизни.
2. Караимы, караиты или книжники, которые отвергали все аллегорические толкования Писания, но принимали все саддукейские положения; они придерживались школы Шамая.
3. Секта фарисеев, получившая название от еврейского слова «перушим», что означает «отделенные люди». Они считали себя сильно отличающимися от народа – отчасти из-за своей учености, которая, однако, заключалась лишь в ложных толкованиях закона, отчасти из-за заслуженных дел, которые были не чем иным, как соблюдением внешних обрядов и суеверных действий. Их учение особенно поддерживалось школой Гиллеля.
4. Секта ессеев. Они больше всего отошли от иудейских обычаев. Их происхождение связано с гонениями сирийских царей или, скорее, с нападением Камбиса. Их образ жизни был очень похож на монашеские ордена, они служили Богу чисто духовным образом, у них были установленные часы, в которые они выполняли определенные обязанности.
5. Секта терапевтов. Они процветали в Египте и были полностью монашескими.
Из времен после разрушения Иерусалима и храма мы отмечаем раввинов: Гамалиила и Иегуду, называемого Святым, – главных авторов талмудического учения. Каббалистическое учение содержится в таинственных книгах «Гаплиях», «Габахир» и «Зоар». Раввины Акиба и Симеон, сын Зоара, распространяли его, но как тайное учение. Наконец, в иудейскую философию проникла философия Аристотеля, хотя все раввины противились этому. Доказательства этого можно найти в сочинении «Кузари». Знаменитый раввин Моисей Маймонид был в этом весьма сведущ. Это смешанное учение имеет большое сходство с позитивной моральной теологией, основанной на толковании божественного закона. Рабби Саадия свел его в систему. Моисей Маймонид придал ему философское направление и создал из него 13 догматов веры, которые он назвал корнями. Наконец, иудеи в Египте приняли аллегорический метод и даже философию этой страны, а именно учение об эманациях, которое состояло из смешения мнений Зороастра, Пифагора и других; все это они старались, насколько возможно, соединить со своими воззрениями. Среди терапевтов это учение уже было в ходу, и Филон следовал ему. Страх иудеев во II веке быть рассеянными побудил их принять это учение, и так они все дальше распространяли эти заблуждения. Подробнее об этом см. в «Истории философии» Формея, стр. 72, 184.
Философия древних имеет тот недостаток, что они совсем не проводили таких наблюдений, как теперь. То же самое было с математиками, чьи древние сочинения, однако, столь ценны, только математика не соединялась с наблюдениями природы, что впоследствии стало причиной стольких открытий.
География у древних была совсем отсутствующей или очень несовершенной.
У греков философы были обучены всем положениям, учениям, а также форме и цели правления своего народа и способствовали их совершенствованию. Как бы груба ни была мировая мудрость у греков, они ее усовершенствовали и передали другим народам. Заслуга греков во всех науках разума и вкуса, таким образом, величайшая. Правление греков формировалось школами философов, но среди них мы особенно отмечаем так называемых семь мудрецов:
1. Фалес, который среди всех заслужил имя мудреца благодаря своей математике.
2. Солон – прекрасный ум, хороший поэт, искусный полководец и превосходный законодатель. Его девиз был: «Помни о конце».
3. Хилон стал заметным и уважаемым среди лакедемонян благодаря своей справедливости и терпению. Его девиз был: «Учись не слишком многому, а познай самого себя».
4. Питтак из Митилены – храбрый и хороший солдат. Его девиз был: «Знай время».
5. Биант из Приены в Ионии – честный, великодушный, добродетельный и мудрый человек. Его символом было: «Люби так, как если бы мог ненавидеть».
6. Клеобул, уроженец Родоса, учился мудрости у египтян. Его дочь Клеобулина была наследницей его добродетелей и знаний. «Ничто, – говорил он, – не лучше умеренности».
7. Периандр – князь коринфян.
Демокрит заслуживает называться первым философом, он был учителем великого и знаменитого Эпикура, который среди древних представляет то же, что Декарт среди новых, и улучшил прежний метод философствования. У Лукреция можно найти положения эпикурейской философии. Однако, поскольку Лукреций, как известно, временами был безумным, он, конечно, мог исказить положения.
Пиррон был человеком великой проницательности, у него была поговорка: «Не ясно», которую он постоянно восклицал надменным софистам, чтобы смирить их гордость. Он был основателем скептиков, которые также назывались зететиками. Но эта секта в конце концов довела сомнение до того, что начала сомневаться во всем, даже в математических положениях.
Сократ занимался практической философией, которую он особенно демонстрировал своим образом жизни.
Пифагор придавал большое значение числам, число он считал самым совершенным, другие же – богом, и поэтому, полагал он, Бог создал элементы. Он хотел все постичь через числа. Поэтому он, среди прочего, говорил: «Животное есть число, движущее само себя».
Платон был очень красноречив и туманен, так что часто сам себя не понимал.
Аристотель приобрел слепое доверие и принес философии больше вреда, чем пользы.
Зенон был основателем стоической секты.
Римляне, в конечном счете, не создали особых главных сект, а следовали грекам.
Арабы вновь возродили учение Аристотеля, которому последовали и схоласты. В некоторых аспектах новые времена имеют преимущества перед древними: последним не хватало знаний, основанных на опыте. Так, например, Аристотелю и всем грекам был неизвестен природный феномен приливов и отливов, который был открыт в новое время. Но и в те времена не было тех средств, которые есть сейчас, чтобы прийти к таким открытиям. Например, возможность быстро путешествовать, и из-за этого недостатка, в частности, расширение эмпирического знания задерживалось. А ведь это важнейшие источники, из которых разум должен черпать.
Вообще, все древние философы были либо скептиками (а эти были мизантропами или ненавистниками разума), либо догматиками, и все они получили свои названия в соответствии с их принципами. Моральная мудрость, естествознание и познание у них были слабыми и ошибочными.
Бэкон Веруламский указал на важность усилий, направленных на то, чтобы привести наблюдения природы к определенным положениям (и даже до сих пор внешние наблюдения природы достаточно расширены, но не внутренние ее явления).
Декарт, Мальбранш, Лейбниц и Вольф, последний из которых благодаря своему трудолюбию создал систему философии, были в более поздние времена усовершенствователями и подлинными отцами философии.
Все усилия нашей философии можно разделить на:
1. Догматические
2. Критические
Среди критических философов Локк заслуживает предпочтения. Вольф же и вообще немцы создали методическую философию.
Наконец, стал известен Крузий, который, хотя и имеет кое-что хорошее, содержит много неверного и особенно заблуждается в том, что пытается доказать множество положений исключительно из природы рассудка.
Что касается логики, то Аристотель был первым, кто ее изложил и изобрел силлогистические фигуры.
Логика схоластов состояла из одних лишь утонченных хитросплетений.
Книга Локка "О человеческом разумении" – основа всей истинной логики.
Во времена Реформации во Франции Петр Рамус написал логику. Он учил своих соотечественников-французов произносить "Quin, Quisquis, Quan quam" не по-французски, а на латинский манер. Из-за этого между ним и преподавателями Сорбонны возник большой спор, так что многие были отстранены от должностей лишь из-за неправильного произношения, пока это дело не дошло до правительства.
После него Вольф, а также Крузий написали логики, но последняя не облегчает изучение наук, а, напротив, настолько темна, что требуется еще одна логика, чтобы ее понять.
Сейчас, наконец, более всего возрождается критическая философия, и англичане имеют в этом наибольшую заслугу.
По большей части догматический метод почти полностью вышел из употребления во всех науках; даже мораль излагается не догматически, а чаще критически.
§6.
Логика занимается либо правилами достоверного познания, либо вероятного; последняя называется Logica probabilium. В обычной жизни мы действуем скорее по вероятности, чем по достоверности, поэтому Logica probabilium была бы очень полезна.
Бернулли, правда, написал такую, но она представляет собой не что иное, как математику, примененную к случаям удачи. Он показывает, например, как можно бросать кости по правилам вероятности.
Logica Probabilium имеет лишь примеры и полезна, скажем, в страховых кассах. Но та, о которой мы говорим, должна охватывать опыт всех людей, и такой логики пока нет.
Логика Крузия о вероятном многими считается хорошей, но она содержит лишь общие рассуждения, которые приобрели авторитет благодаря ученому тону.
Так же, как круг легче начертить, чем эллипс, или как легче дать правила для добродетели, чем для непостоянства, так и правила для достоверного познания найти легче, чем для вероятного. Основания достоверности определенны, а вероятности – нет; но теперь нужно показать, насколько они должны быть велики, чтобы что-то считалось вероятным, что трудно определить.
§7.
Логика может быть разделена:
1. На теоретическую
2. На практическую
Теоретическая логика показывает нам только правила научного познания, а практическая применяет эти правила к конкретным случаям.
§8.
В этом параграфе автор говорит о пользе учения о разуме. Оно способствует изучению наук вообще. Но это относится только к логике в объективном смысле, то есть к той, которая действительно такова, какой должна быть. Логика же, столь темная и чрезмерно утонченная, как у Крузия, не может приносить такой пользы.
Во-вторых, она улучшает рассудок и разум, подобно тому, как тот, кто понимает язык по правилам, может ошибаться реже, чем тот, кто выучил его лишь на практике. Поэтому первый уверен в своем деле больше, чем второй, который вряд ли сможет разобраться в том, с чем еще не сталкивался. Напротив, другой может все строить по правилам, предписанным языком, и точно так же тот, кто имеет перед глазами правила, по которым должен формировать свой разум, и правильно их применяет, будет ошибаться реже, чем тот, кто ничего не знает об этих правилах.
Логика, например, способствует добродетели: в сомнительных случаях можно действовать по правилам логики и судить, действительно ли дело хорошее или нет. Это ее прямое влияние на добродетель; косвенно же она, как и все спекулятивные науки и познания, способствует добродетели, поскольку, если человек приобретает вкус к ней, отвлекает его от чувственных соблазнов и одновременно прививает своего рода благонравие. Если человек хочет заниматься умозрениями, он должен быть спокойным, благовоспитанным и довольным вещами вне его, что в конце концов с помощью логики может стать для него привычкой.
Учение о разуме. Первая главная часть ученого познания. Первый отдел. О ученом познании вообще.§ 10
Автор в этом параграфе хотел дать определение представления, но, поскольку не смог этого сделать, он прибегнул к риторическому приему, как это обычно бывает, когда нельзя сказать ничего определенного. Он говорит в заключение, что представление подобно образу, который изображает живописное искусство души в ее внутреннем мире. Что такое представление, собственно, вообще нельзя объяснить – это один из простых понятий, которые мы необходимо должны иметь. Каждый человек непосредственно знает, что такое представление. Познания и представления – одно и то же. Однако понятия несколько отличаются от них, как мы увидим в дальнейшем. В логике познание и представление принимаются за одно и то же.
Каждое представление есть нечто в нас, но относящееся к чему-то другому, что является объектом. Некоторые вещи представляют что-то, мы же представляем себе вещи. Логика вовсе не учит нас тому, как мы должны что-то представлять себе через сознание, а, напротив, предполагает сознание о чем-то как предмет психологии.
§ 11 и 12
Во всяком познании мы находим нечто материальное, но также и нечто формальное.
Предмет, который мы себе представляем, есть объект, а способ представления называется формальным. Если я, например, представляю кому-то добродетель, то могу обращать внимание, с одной стороны, на то, что я себе представляю, а с другой – на то, как я это представляю. Это формальное, а то – материальное репрезентации. Однако логика имеет дело большей частью с формальной стороной познания.
Познания могут иметь разную форму при одной и той же материи. Существуют целые науки, философия которых отличается от обычного понимания не материей, а только формой, ясностью. Так обстоит, например, с моралью.
§ 13
Когда мы отличаем представление и его объект, на который оно направлено, от других представлений, мы осознаем представление. Сознание сопровождает каждое наше состояние – оно есть, так сказать, созерцание нас самих.
Однако мы не осознаем большинства самых сильных и действенных представлений. Кто мог бы себе это представить? Только тем представлениям, которые мы осознаем, мы можем предписывать правила. Подробнее здесь о сознании говорить нельзя – учение о нем относится к метафизике. Чтобы иметь правильное понятие о нем, необходимо положить в основу многое из метафизики.
§ 14
Здесь речь идет о смутных и ясных представлениях. Если в сложном представлении я различаю его части, из которых оно состоит, то это ясное представление. Если же я не различаю частичных представлений, то оно смутное.
Например, если я вижу сырного клеща, мое представление о нем сначала смутное. Но если я беру микроскоп и вижу в нем рот, полный зубов, ряды ног, черные глаза, то я и раньше представлял себе все это, но не мог различить эти частичные представления от целого тела. Благодаря микроскопу мое познание становится ясным, так как я представляю себе отдельные части сырного клеща и отличаю их от всего тела.
Точно так же, если я рассматриваю Млечный Путь невооруженным глазом, я не различаю в нем ничего отдельно, не осознаю в представлении его частей. Но если я смотрю на Млечный Путь через телескоп, я вижу, что он состоит из неподвижных звезд. Эти звезды я представляю себе как части Млечного Пути и отличаю представление одной звезды от представления другой – и потому имею ясное представление, так как для этого требуется, чтобы я различал частичные представления друг от друга.
Простое представление и простое познание не могут быть ни смутными, ни ясными. Смутность и ясность встречаются только в сложных познаниях.
Таким образом, главное свойство логики будет состоять в том, чтобы разлагать смутное познание и делать его ясным.
Ясности противопоставляется неясность, а порядку – путаница. Нечто может быть смутным, даже если я осознаю частичные представления и оно имеет ясность. Ясное представление не всегда упорядочено. Чем больше мы сводим наши представления к простым, тем больше устраняем путаницу.
В ясном представлении материальное то же, что и в смутном: в одном случае мы представляем себе столько же, сколько в другом. В смутном представлении у нас есть частичные представления, как и в ясном, ведь если бы их не было, не было бы и целого. Но в смутном мы не различаем частичные представления.
Познание может быть ясным только в той мере, в какой оно есть целостное представление. Точно так же только целостное представление может быть смутным. Простое представление ни смутно, ни ясно, так как в нем нельзя различить одну частичную часть от другой. Ясность и смутность встречаются только в целостных и сложных представлениях.
Ясность может проявляться:
1. В созерцании, когда мы хорошо можем отличить признак от того, что созерцаем. Это ясность в созерцании.
2. В мышлении, когда мы связываем ясные понятия и представления с созерцанием. Часто можно что-то ясно созерцать, не думая при этом ясно.
К ясности созерцания мы приходим через большее внимание (синтез), а к ясности понятий – через разложение того, что я думаю, что я уже действительно представляю себе в мыслях (анализ).
Вся мораль состоит из понятий рассудка. Эмпирическая ясность приобретается апостериори через внимание к объектам опыта. Разумная же ясность приобретается априори через внимание к действиям моего рассудка.
§ 15
Основание есть то, из чего можно познать нечто, а следствие – то, что можно познать из основания. С этим определением мы можем здесь обойтись, но в метафизике оно нас не удовлетворит.
Основание, из которого можно понять все последующее и которому ничего не недостает, есть достаточное основание. А такое, из которого познается только нечто, есть недостаточное основание.
Например, если мы говорим, что на Луне есть жители, потому что на ней есть горы и долины, то это недостаточное основание. Из него видно только, что это возможно и вероятно. Но если, например, купец имеет 100 000 талеров состояния, и говорят, что 50 000 он заработал торговлей, а 50 000 унаследовал, то это достаточное основание.
Отношение основания и следствия есть связь. Например, дерево связано со своими плодами: дерево – основание, а плоды – следствие.
§ 16
Всякая истина имеет свое основание, то есть то, из чего можно отличить ее от ложного и признать истинной. Здесь, в логике, речь идет именно о достаточных основаниях, но подробнее об этом говорится в метафизике.
§ 17
Если я познаю только основание следствия, то познание от этого еще не становится разумным. Например, если указывают селитру как причину грозы. Но если я ясно понимаю, как из основания возникает следствие (например, как из селитры происходит гроза), то мое познание разумно.
Автор здесь уже говорит о разумном познании, не обсудив предварительно ясное. Он должен был назвать его разумным познанием, которое само возникает из разума.
§ 18 и 19
Все совершенства познания суть:
1. Эстетические, состоящие в согласии с субъективными законами и условиями.
2. Логические, состоящие в согласии с объективными законами и условиями.
Все необходимые условия этих совершенств познания вообще суть:
1. Ощущение (как я воспринимаю присутствие объекта).
2. Способность суждения.
3. Дух.
4. Вкус.
Познание согласуется с субъектом, если дает нам много для размышления и приводит в действие наши способности. Сюда же относятся легкость, созерцание, подобия, примеры.
Ощущение занимает низший ранг, а созерцание – высший, так как через ощущение нельзя судить, а через созерцание можно. Поэтому первое имеет наименьшее значение в эстетическом совершенстве, а второе – высшее.
В познании есть два рода совершенств:
1. То, что оно согласуется с природой вещи.
2. То, что оно действует на наше чувство и вкус.
Первое – логическое, второе – эстетическое совершенство. Оба суть формальные совершенства. У нас есть логика, которая делает наши познания логически совершенными, и другая, которая делает их эстетически совершенными.
Первая учит нас создавать представления, соответствующие природе вещи (это делает логика, которую мы сейчас рассматриваем). Вторая, содержащая эстетику, должна рассматривать представления, действующие на наше чувство.
К логическому совершенству относится ясность представления, а также то, что оно должно быть разумным. О последнем говорилось в § 14.
Мы можем сказать, что познание или представление разумно, когда применяется разум, когда я познаю основания. Но особенно к логическому совершенству представления относится истина. Другое средство объективного совершенства – ясность.
Например, доказательство логически совершенно, если приведенные доказательства достоверны, ясны, несомненны и согласуются со свойствами вещи. Доказательство может быть и легким, хотя это свойство относится не к объекту, а скорее к субъекту. Поэтому один и тот же объект может быть для одних субъектов трудным для понимания, а для других – легким.









