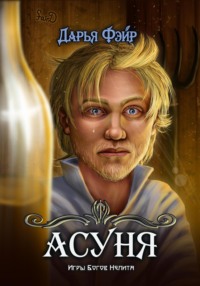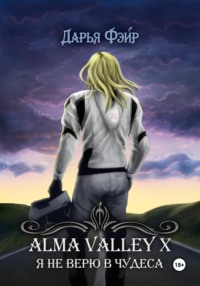Полная версия
Игла в моём сердце
Вздохнула Василиса, зябко поёжилась, проводив взглядом заиндевелое белое облачко, что из груди вырвалось, да и пошла вперёд. Ночь уж скоро, а в темноте как найти, коли не видно ничего? Так и отправилась, с опаской смотря на гаснущий закат, что ещё подсвечивал дымку у гор, давая видеть замок.
Шла долго, пока заря совсем не потухла. Чёрные стены всё сильнее нависали, серебрясь по углам морозными искорками. В окнах то мелькал приветливый свет, то зелёное могильное зарево мерцало – цветом, как огоньки болотные. А башенок с острыми шпилями сколько! В каждую по мавке посадить – все горы бы пели!
Тропу, что расширилась к замку, окружили деревья, поймали первые звёзды в сеть ветвей, а понизу пополз болотный туман, что ноги закрывает и не даёт смотреть, куда ступаешь.
И вдруг – фонарь справа! Полыхнул изумрудом и затеплился, будто гнилушка, да не тускло, а так, что и туман подхватил, разнося сияние клубами. Василиса повернулась к нему и увидела человеческий череп на жерди, а из его глазниц колдовской свет. Едва отшатнулась влево – и там такой же вспыхнул. А после впереди ещё и ещё, поднимаясь по петляющей меж корней дороге, и так до самого крыльца.
Вороньё забеспокоилось, закаркало, заметалось, хлопая крыльями. И колдовской могильный свет ещё ярче загорелся в ближнем окне.
– Заметил, – дрожащим голосом выдохнула царевна, понимая, что всё – нет пути назад.
И, сцепив зубы и взяв в пальцы Яговский платочек с тесьмой по краю, скорым шагом направилась к крыльцу. Не дрогнет рука, не собьётся. В своём праве Василиса пришла, и не даст никому её право отобрать.
Споткнулась на ступени крыльца, поправила полушубок, отбросила выбившийся локон с лица, заправила под косынку. Занесла кулак, лишь на секунду зажмурилась, чувствуя, как по ледяным щекам течёт обжигающее из глаз, и стукнула, что аж костяшки заныли.
– Отворяй, Кощей! Спрашивать с тебя буду!
В тишине каркнул ворон. А за дверью раздались шаркающие медленные шаги.
Часть вторая: Кощеево царство
5. Чёрный замок
Внутри всё захолодело. Что было дальше, и не помнила бы, да после во снах приходила картина – так врезалась в память.
Шарк, шарк, шарк. Потом: хр-р-р-рш-ш-ш-ш. Короткий цокот с той стороны, как если кто-то неловко ручку нащупать пытается, а следом медленный заунывный скрип, и дверь поехала внутрь. В лицо будто плеснули что-то – таким холодом повеяло из, казалось бы, жилого дома.
Василиса вскинула руки от неожиданности и обомлела. Перед ней стоял, чуть покачиваясь и держа такой же череп-фонарь, молодец добрый. Высокий, кафтан богатый, сапоги на вид новые, да в левом рукаве словно пусто. И смотрит так, будто нет её, а дверь забавы ради пришёл открыть.
Не успела и слова сказать, как молодец ступил шаг назад, посторонился и той рукой, что держала фонарь, указал вовнутрь, приглашая.
Может, и хотелось бы отказаться, да поздно, и, зажав платочек заиндевевшими от мороза руками, она вошла в замок. Огляделась, выпустила клуб пара из груди и двинулась за молодцем. Брела и себя убеждала, что с холода ноябрьского дрожит, а не от страха.
Внутри, под высокими и тёмными, словно пещерные своды, потолками, висели причудливые светильники и рассеивали болотное сверканье, давая разглядеть, как Кощей поживает в царстве своём. И поглядеть было на что! Убранство богатое, всюду серебро и злато, по чёрным стенам выложены картины драгоценными каменьями, под ногами гранит искрится, а по сторонам горный хрусталь аж до пояса высится друзами, будто сам из пола вырос. И на гранях – иней, что сразу видно, насколько тут холоднее, чем на дворе морозном. Успевай только пар выдыхать и руки в рукава прятать, пока ломить не начало.
И всё бы не так страшно, да челядь сбредалась к запоздалой гостье, и все как на подбор – бледные, что рыбье брюхо, и молчат, будто и не дышат вовсе.
«Кабы не заложные4…» – сглотнула Василиса, стуча зубами и стараясь не оглядываться на бредущих следом молчунов. Тот, что отворил дверь, единственный неспешно шаркал впереди, указывая дорогу через длинный коридор к широкой высокой лестнице. А рукав-то и впрямь пустой – качается, от сквозняка плюснет. Царевна скосила взгляд назад, а у других тоже: то костыль вместо ноги, то одёжа висит, словно нету под ней куска, то глазница чёрная запавшая. И смотрят так, будто не мил им свет белый. Да и как мил-то будет? В Кощеевом-то царстве да под его началом?
Всякие слухи про Кощея ходили. И что девок ворует, и что без вины душу сгубить может одним взглядом, и что мор на целые царства насылает. Что могучий воин он, и что убить его нельзя, даже если по частям разрубить. А обликом Кощей страшней всех покойников, потому как скелет голый, да не мёртвым лежит, а злую волю по земле несёт. Слыхала царевна и что в облике старца он представляется часто. Такого, что увидишь раз и сам себе глаза выдавить от страху захочешь, такая злоба с него сочится. А ещё поговаривали, что вороном чёрным обернуться может, да взор выдаёт, сияющий могильным светом.
Представила это всё царевна, и так захотелось, чтобы вместо скелета и старца ворон её встретил! Уж ворона-то опасаться меньше всего надо! Да как с птицею разговаривать? Так что всё одно бояться придётся.
Молчаливая челядь рядом будто ещё больше страху нагнать хотела, так надвигалась сзади и не мигая глядела в затылок, покрытый пуховой косынкой, аж голову спрятать хочется. Василиса поправила полушубок, понимая, что дрожит вся ещё сильнее. До чего же холодно здесь!
Чего народу Кощеевому надо, так понять и не сумела, но едва ступила на лестницу, как большая часть отстала – только передний молодец так же шаркал, остальные внизу выстроились и головы задрали. Видать, стерегут, чтоб не сбежала.
«Зато хоть с лица не смеются и не чураются», – подумала она, настраиваясь на боевой лад, чтоб не трусить. И пора – у верхней ступени ратные стояли, а между ними высоченные двери. Тяжёлые, в узорах, полностью златом покрытые. Поджидает Кощей, знает, что пришла к нему в руки сама. Примет ли? Поможет ли? Отпустит ли потом?
Покуда поднималась, дыханье совсем сбилось, рябые щёки защипало, запекло, да теплее не стало – только пар изо рта всё гуще валит, словно с ним выходят последние живительные силы. Утёрла нос, чтоб не текло, сделала три последних шага и стала на пороге. Распрямилась, платочек в рукав спрятала, косынку поправила и стиснула зубы, чтоб не стучали так громко, а пар изо рта осел инеем на позолоте.
Отворялись двери в кромешную тьму с рокочущим скрипом, что аж пол под ногами заходил. Медленно, как в первый раз у царя-батюшки в хоромах, да только там, что выйдешь, знаешь, а тут – проще в домовину лечь, чем туда ступить! И темень такая внутри, будто пропасть, и не ведаешь, сорвёшься ли, если войти осмелишься.
Провожатый с фонарём жестом велел ступать вперёд, но сам с места не двинулся. Глаза рыбьи, пустые, глядят в стену над головой, а всё равно боязно, что если ослушаешься – силой втолкнёт. «А вот и сама пойду!» – решила Василиса, выпустила ещё один клуб пара, поплывший пятном в темноте, и шагнула.
Рывком по сердцу за спиной грохнули назад двери, что аж споткнулась. Обернулась, глазами хлопнула, а всё равно будто закрыты – такая темень. Икнула и за платочком полезла. Куда идти-то? Где двери, что только что были позади, где путь дальше? И лишь сердце в висках стучит оглушающе да дыханье прерывисто сотрясает грудь.
И тут – едва слышное «ш-ш-ш-шх-х»… Будто плащом кто по полу рядом, да не видать – кто. Слева, справа, а затем гневное воронье карканье издали сверху. Василиса взвизгнула, зажмурилась, закрылась рукавами, но после отняла руки от лица и дрожащим голосом окликнула:
– Не боюсь тебя! Эй, Кощей! К-к-кощей! К тебе пришла, встречай гостью как полагается!
Что поменялось, не поняла, но вздрогнула, увидев далеко впереди полыхнувшие болотной зеленью глаза. Ждали её там, смотрели. Чего хотят только? Не разглядеть отсюда, а вперёд идти боязно – не видать ничего.
– Что ж ты гостью встречаешь во тьме кромешной, хозяин? А ежели не дойду до тебя, свалюсь и шею сверну себе, как разговоры разговаривать-то?
Голос, раздавшийся в ответ, прозвучал – будто повсюду сам по себе гулял, и аж присесть захотелось, таким ледяным, безразличным злом от него веяло:
– Что жива ты, что мертва – мне всё одно. Я и с мёртвыми беседы вести могу, да только мёртвых привечать не надобно. Им что скажешь – то и сделают. И с капризов бесед они точно не начинают.
Что ответить, царевна не нашлась, просить больше не осмелилась, но тут хозяин, похоже, сжалился, и впереди стеной вспыхнуло пламя. Да не рыжее, как бывает, а всё теми же болотными ледяными огнями, словно они набрались силы и в человечий рост стали.
Василиса сощурилась, задрала голову, аж косынка с платком на затылок съехали. Хоромы оказались огромные, высокие, что лес вырастить можно, да пусто вокруг, мёртво, лишь со стен каменья сверкают и светильники волшебные, разгорающиеся от воли Кощеевой, сиянье рассеивают. Под ногами посверкивает гранит, будто небо ночное, а впереди на нём скалою вырос высокий трон с тремя ступенями. Там и ждал её хозяин.
– Подойди, – раздался приказ, и Василиса сперва аж побежала, будто силой поволокли, словно вновь к царю-батюшке в палаты с отчётом пришла.
Сапожки, которые мельник починил, каблучками и до этого знатно по полу звенели, а сейчас отдавались ударами топора в ушах, теряясь меж колонн и отражаясь от стен. Ноги, сперва бодрые, будто опомнились, что не царский терем-то, и стали вязнуть в юбке, а дрожащие руки вновь вытянули из рукава платочек и вцепились в тесьму ногтями. На белой ткани мелькнуло пятнышко крови с костяшек, потрескавшихся от мороза. И не заметила даже, как снова закровоточило – стужа такая, что и не чувствушь пальцы уже!
Фонари на стенах за спиной тускнели, а впереди разгорались, словно подгоняя. Разглядеть в неверном мерцающем свете, кто на троне, пока не удавалось. Но что ждут её, Василиса явно видела в замершей, будто изваяние, фигуре. Даже отсюда венчающая белоснежную голову антрацитовая, сверкающая каменьями корона казалась тяжёлой, словно предупреждала гостей, что не по силам носить такую никому из смертных. Чёрные одеяния охватывали фигуру, кое-где заостряясь зубастыми углами лат, и лишь волосы по плечам спускались белоснежными крыльями.
– И впрямь седой… – прошептала царевна, продолжая идти в гулкой пустоте и вглядываясь в лицо хозяина, что казался издали ещё одним сверкающим очами светильником. Вот как те, что на жердях встретили у замка.
«Ох, лишь бы не череп, лишь бы не череп!» – молилась она, глядя то на острые скулы, то на руки, которые отсюда казались голыми костями.
Но чем ближе подходила к трону на возвышении, тем отчётливее видела, что пальцы у сидящего длинные, но кожей обтянуты, и на бледном лице не пустые глазницы, а лишь глубокие тени так контур рисуют, как ежели ночами не спать толком. Запавшие щёки, лоб высокий, выбритый на иноземный манер подбородок и цепкие, абсолютно живые, пусть и сверкающие волшебным светом глаза.
– Не старик, – обомлела царевна и стала столбом перед троном, на мгновенье растеряв весь свой с таким трудом разогретый запал. Даже дрожать забыла, глядя снизу вверх на хозяина.
Кощей, казавшийся недвижимым изваянием, будто не дышал. Смотрел гордо, не склоняя головы, а только взгляд скосив. Пальцы длинные, и даже на вид ледяные, свободно лежали на подлокотниках, грудь закрыта богато изузоренной чернёной кирасой, а над ней, на самом вороте – искусно вышит простыми нитями знак Чернобога. Ни дыхания не слышно, ни пара изо рта хоть лёгким туманом, лишь искорки голубоватые из зелёных глаз посверкивают, словно волк в ночи у костра добычи искать решился.
И до того жуть пробрала от его взгляда да тишины этой мёртвой, что захотелось крикнуть так, чтоб аж уши заложило. Но не успела и задуматься об этом, как тишину нарушил шорох ткани, и статуя ожила – вдохнула, сжала подлокотники, выставила ногу в остроносом чёрном кованом сапоге, а затем стала плавно выпрямляться, становясь всё выше и выше, будто вот-вот шипами короны небеса подопрёт.
«Сказать что-то надо! Что-то надо сказать, не стоять столбом!» – пронеслось в голове затравленно. Но только девушка набрала в грудь воздуху побольше, как хозяин сам заговорил. Да так, что голос будто даже свет к полу прихлопнул, настолько грозно пророкотало эхо по гулкой тишине:
– Назови своё имя.
«назови мне своё имя, василиса…» – отозвалось в памяти и к горлу подкатило, вот-вот дышать уж нечем будет. Василиса совсем оробела, аж колени подогнулись, как в царском тереме. И от этого в ней проснулась такая обида за всё, чего ей по воле Кощеевой натерпеться пришлось, что аж в жар бросило. Всю жизнь боялась слова, жеста, взгляда, а сейчас – неча! Ногти, впившиеся в ладони через ткань платка, вернули разуму ясность, и царевна сделала ещё шаг, задрала голову, прямо смотря в сверкающие глаза, и, резко выдохнув клуб пара, ответила:
– Как тебе имя моё не знать, Кощей?! Коли сам меня проклял на жизнь такую с обликом жабьим?!
Седые брови опустились ниже, собрав две морщинки на переносице, а рука в чёрном рукаве подняла палец, похожий на коготь, и ткнула им в сторону её лица:
– Я могу узнать твоё имя сам. Да только захочешь ли ты стать мне куклою послушной?
– Василисой звать! – тут же отступила девушка, но крикнула грозно, даже платочком тряхнула, осерчав. – И не куклою я быть пришла, а ответа с тебя требовать! – и уставилась в сверкающие глаза: – Почто ты меня на жизнь такую обрёк, окаянный?! Какое зло я тебе сделала, что заслужила эдакое?! Чем горе причинила, чем оскорбила, а? Отвечай, Кощей! А коли ответа нет, то снимай проклятье своё, и пошла я! Меня супруг мой ждёт, негоже молодцу доброму без жены женатому быть!
– Супруг? – спокойнее проговорил хозяин, а после оглядел гостью внимательнее: – Облик жабий я тебе дал, говоришь? – и сделал несколько шагов, спускаясь к Василисе.
Царевна отшатнулась было, но сжала зубы, что вновь застучали, и упрямо глянула ему в лицо. Кощей приблизился, склонил голову, свесив седые волосы, и ледяными пальцами зажал ей подбородок, заставляя дать себя рассмотреть.
Лишь раз царевна видела такой же взгляд – когда царь-батюшка впервые увидал её. Иванушка тогда привёл, после стрелы в лесу. Втолкнул в палаты белокаменные, локоть пальцами больно стиснул и хаял вполголоса отцовский приказ на все лады, пока к царю приближались. А тот с трона поднялся, стал напротив неё, так же цепкой рукой лицо к себе поворотил и смотрел. Долго, молча, и в отражении его глаз словно читалось, как он один за другим видит все-все её изъяны. Запоминает и что-то сам себе решает.
Всё так же было и сейчас, с одной лишь разницей – в ледяных глазах Кощея так и не появились привычное отвращение и презрение, отчего беспокойство разыгралось не на шутку, аж дрожь по спине прошла. Уж лучше бы брезговал, как все, а тут и не знаешь, что делать. Радоваться? Иль ждать, когда одним ударом в Навь отправит, чтоб не оскорбляла своим видом замок? Даже однорукий молодец, что подле деверей её оставил, и то не так своею пустотою пугал, как этот взгляд, какой у сокола над мышью бывает. Холодный, да с интересом, что чрево бурчать заставляет.
– Не проклятье это, Василиса, – эхом отозвался от стен голос хозяина, а по щекам дыханием пролетело, словно ветром зимним. – И не моих рук дело.
– А что же? – опешила она.
Кощей на это поднял руку, подцепил пальцами белый локон у неё на лбу, рассмотрел и выпустил. Затем склонился, чтобы взять её руку, поднял ладонь к себе, засучил рукав и с интересом всмотрелся в пятна на кровоточащей зеленоватой жабьей коже.
– Как давно ты такая?
– Да с рождения, другой и не бывала, – пожала она плечами, не чувствуя тепла от прикосновений, словно неживые. Заодно и брезгливой дрожи нет. – Мне так и сказали, что Кощей мою матушку проклял за то, что, дескать, чужого мужа приворожить хотела колдовством злым, да не вышло.
Он на это перевернул её ладонь, пальцем с костяшек снял новую капельку крови, что сочилась из трещин, растёр и слизнул. Царевна аж ахнула от удивления, а он тем временем замер на мгновенье и сказал:
– Это болезнь, Василиса. И дала тебе её мать твоя, когда ты в утробе была. С неё и спрашивать тебе надобно – не с меня.
– Так нету матушки уже, почитай, лет шесть, – медленно пробормотала она, глядя на зажатую в холодной руке ладонь и чувствуя, как в душе оборвалась последняя надежда. – Не с кого спрашивать…
Плечи поникли, колени того и гляди тоже подломятся. Не держал бы – упала б. Вся храбрость, с которой шла она с Кощея спрашивать, улетучилась вместе с морозным дыханьем, оставив пустоту.
Он тем временем продолжал рассматривать её руку, будто и не противно ему прикасаться. А впрочем, что ему-то? Уж кому-кому, а ему не страшны никакие хвори, так может…
– А можешь ты?… – вспыхнувшая новой надеждой царевна осеклась, но, сглотнув, продолжила, понимая, что нечего уж терять: – Можешь ты вылечить меня? А, Кощей? Ты же колдун, говорят, знатный. Любые чудеса тебе подвластны, так может, и для меня получится?
Изумрудные глаза сверкнули совсем рядом:
– А чем платить будешь, Василиса?
Он выпустил её, сделал шаг назад, к трону, поднялся, расправил длинный плащ и, звякнув латами, сел. В каменьях короны искрами прыснули отблески колдовского света.
– Нечем платить мне, Кощей, – опустила взгляд Василиса, сжимая кулаки, что уже даже дрожать перестали – так замёрзли. – Нет у меня ничего. Ни бус, ни соболей, ни угощенья. С пустыми руками пришла я, так что ими и могу расплатиться, – и подняла молящий взгляд. – Коли возьмёшь на работу – буду трудиться справно. Я и куховарить могу, и ткать, и шить, за скотиною ходить умею, а надо если – и грамоту знаю, писарем могу тебе помогать. Труда не боюсь, Кощей, мне только дело дай – справлюсь. А больше нечем мне отплатить за волшебство твоё.
– А что же, супруг твой за тебя не заплатит? – спросил он, склонив голову, будто уже знал ответ.
Царевна запнулась, потупилась и порадовалась, что заледенела и сгореть от стыда не сможет.
– Не знает царевич, что здесь я. Не сказала я, куда отправляюсь. И когда вернусь – тоже.
Собеседник примолк, царапнул по подлокотнику, а затем хмыкнул:
– «Царевич», значит? Так ты – царевна? Та самая? – Василиса вскинулась, а Кощей впервые едва заметно улыбнулся. Почти привычно – презрительно. – Царевна-Лягушка?
– И досюда, что ли, слухи долетели? – серея от ненависти к себе, глухо спросила Василиса.
– Я многое знаю, потому как сам много где летаю, – задумчиво ответил он. – Но что известно мне точно, так то, что с царской семьёй де́ла иметь не хочу. Так что ступай прочь, Василиса, откуда пришла, не стану я помогать тебе.
Окинул взглядом замершую, как оленёнок, дрожащую фигурку, кивнул, чуть склонив голову, и тише продолжил:
– За смелость пожалую шубу тебе, у сенного спросишь. Без неё не дойдёшь по моим землям, – едва заметно вздохнул, прибавив: – И обогреться у очага позволю, чтоб не пришлось тебе через Калинов мост раньше срока идти. Дадут тебе хлеба да мёда, но до рассвета чтобы не было тебя в моём замке.
Вот тут-то Василиса и испугалась по-настоящему. Одно дело – идти на смерть лютую, зная, что поборешься ещё за себя, а может, и с победою выйдешь, коли не струсишь. И другое – уходить прочь в дальнюю дорогу без надежды, понимая, что вся храбрость была зря.
– Смилуйся, Кощей! – взмолилась она, сделав шаг к трону, и чуть не бросилась в ноги, но под взглядом из-под насупленных бровей остановилась. – Куда ж я пойду? Такая. Как на глаза Иванушке-то покажусь? Мне такой идти некуда, проще сразу сгинуть! – и, сглотнув, утёрла нос рукавом, прибавляя: – А кровей царских нет во мне, я из простого люда. Царевною без году неделю хожу! Стрелу поймала, вот и женился на мне Иванушка по приказу батюшкиному!
– Царь нынешний своего из рук выпускать не привык, – сощурив колдовские глаза, строго ответил Кощей. – И коли назвал тебя царевной, то сидеть тебе в тереме под боком до конца жизни. А ежели против воли пойдёшь – возвратят хоть хромую, хоть рябую, хоть по частям, Василиса. На что мне это бремя, скажи мне? – и двинул подбородком: – Уходи подобру-поздорову. Возвращайся к супругу и живи своей жизнью, как обычаями вашими велено. Царя ослушаться – себе дороже.
Щёку обожгло, словно кто хворостиной стегнул, и только когда в тишине на пол плюхнулось, Василиса поняла, что плачет и это дорожки слёз так кожу калят. Склонила голову, всхлипнула и, не удержавшись, аж ударила платочком в лицо – так кулаки прижала, разрыдавшись в тишине.
Хотела ещё умолять, а может, и смерти просить, ежели помочь не согласится. Всё лучше, чем назад ни с чем возвращаться. Да не смогла и слово вымолвить из-за сведённого судорогой горла. Лишь выла и слёзы утирала, глядя на свои уродливые руки с цыпками, с трещинами, язвами и синяками, что царевич оставил. Жабьи руки. Так может, жабе и жабья смерть?
«Коли не ответит, пойду к болоту да с мавками уйду», – решила она. Всхлипнула ещё раз, утёрлась и поглядела на колдуна, а тот аж кадыком дёрнул – так, видать, противно ему было смотреть в её заплаканное лицо.
Только вот сказать он ничего не успел, потому что двери позади раскрылись, и послышались шаги.
6. Матушка
Василиса обернулась, да в темноте не разглядеть, кто идёт – фонари еле теплятся с той стороны, и лишь шаги слышно. Ступали мягко, быстро, но меленько, чуть подшаркивая. И фигурка сгорбленная мелькала в отсветах зелёных фонарей.
– Ох, успела я! – раздался тихий старческий голос, едва кое-как стало видно лицо пришелицы.
Дыхание сбивчивое по-живому пар пускало, шаги замедлились, и вот перед ними старушка встала в светлом богато расшитом сарафане и ажурной пуховой косынке, как барыни носили. А вот руки, как и у царевны, сморщенные, словно у девки половой – сразу видать, что к труду с детства приучена.
Замерла старушка, пожевала губами, а после расплылась в улыбке и всплеснула руками:
– Какая красавица! Ох, Камил, ты только погляди! Настоящая краса! Краше и не видала я девицы!
Василиса сжала зубы, припоминая, как слыхала подобное от тех подруг, что сильней прочих потешаться любили. Да только эта старушка так улыбалась, словно и сама верила в свои слова. Просеменила ближе, коснулась рябой руки, а затем выше по рукавам, до плеч, и по щекам погладила, качая головой:
– Какая же красавица, Камил! Дождалась я! Столько лет уж, а всё не то. А этой девицы прекрасней и не сыщешь!
По старческой щеке скатилась слеза, и только сейчас Василиса поняла, что глаза-то улыбаются, да немножко мимо смотрят. Слепая?
– Матушка? – раздалось сзади, и латы вновь лязгнули. Кощей подошёл к ним и бережно взял старушку за руку, отняв ту от щеки гости. – Матушка, она царевна. Жена Ивана.
– Красавица она, Камил, – заверила его она. – Красавица писаная! А что царская, так то и неважно вовсе! Уж тебе-то, чернокрылый мой! – но, как-то видя непреклонность в колдовских глазах, вздохнула и сказала: – А коли слушать меня не станешь, так дай ей хоть дух перевести. Накорми, напои, переночевать в тепле позволь, в баньке попариться. Куда ж ты девицу одинокую на мороз в дальний путь отсылаешь? Ещё зима не легла, а у нас уже сани запрягают! А ей-то как без саней, голодной-холодной?
– С рассветом пусть уходит. Я и так сказал ей, что может обогреться, – упрямо нахмурился Кощей, боком став к обеим. – Погибнуть сегодня не дам, а дале – не моё дело.
– Вот и славно, вот и хорошо, – закивала старушка, радуясь, похоже, и этому, а после нащупала девичью руку и потянула: – Идём со мной, красавица. Студёный тут воздух, а я тебя к печи отведу. Согрею да употчую тебя как положено, а то лица на тебе нет, так озябла.
Василиса обернулась было на Кощея, но трон оказался пуст, и огни за ним постепенно гасли. Исчез хозяин, так и оставив без ответа. А старушка уже семенила к выходу, будто дорогу в темноте видела ясно, как днём.
У дверей их встретили те же молчаливые слуги, но уже не всем составом, а около дюжины. Матушка как давай команды им раздавать, так те и разбрелись все – каждому дело нашлось. Одни отправились баню растапливать, другие – кашеварить, третьи – палаты гостевые готовить.
– Сегодня переночуешь подле меня, голубушка, – говорила она, ведя Василису по коридору вглубь замка, когда они спустились и отправились в соседнее крыло. – А дале уж определят тебя в башню, чтоб, как и положено царевне, в своих палатах жила. Та башня – Рассветная, в ней больше всего солнца бывает, что даже в стужу лютую не так зябко. Так что, красавица, зимовать будешь в тепле.
Девушка охнула:
– Да куда ж зимовать, коли велел Кощей мне до утра убираться?
– Да не слушай его, красавица! – отмахнулась матушка, нащупала руку, погладила и улыбнулась тепло, как дед Тихон улыбался, когда Василиса ему жалилась на дразнилки. – Камил упрямый, да отходчив. А уж я знаю, как уговорить его, чтоб не гнал тебя зазря прочь. Так что не тужи, красавица, всё у тебя сладится теперь. Осталось обогреться тебе, чтоб не слегла опосля морозу с горлом больным да носом сырым, – и засмеялась.