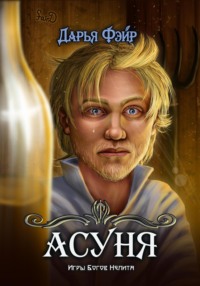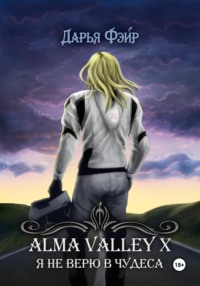Полная версия
Игла в моём сердце
Сейчас Василиса уже привычно поджала колени к груди, спрятала руки в рукавах и спала, как с детства привыкла – не дрожа от лесных звуков и шорохов. Спасибо матушке, что научила, как ночлег себе сделать, ежели из избы гонят. Часто приходилось её же наукой пользоваться, когда родительница больно серчала, и наставало время уносить ноги, покуда не остынет. Благо, лесные звери ни разу не обидели дитя. Может, леший подсобил, а может, за свою приняли, лесную? С таким-то обликом.
Утром девушка посмотрела на себя. Случайно, так-то не хотела, давно привыкла сразу поверхность баламутить, чтоб не мелькнуло ничего. Да задумалась, вода в запруде успокоилась, и отражение выплыло жабьей рожей.
Пучеглазая, губищи с палец каждая, а сама отощала, будто Кощеева родственница. Да не будь у неё кожи рябой, и без того за лягушку сошла бы как пить дать! А так, жаба и есть – жаба. Царь-батюшка ещё милостивый оказался, прозвище доброе дал, чтоб злые языки утихомирить. Да всё равно трепали.
А царь ведь с самого начала её по-отцовски приветил как родную! После венчания подошёл и руками всплеснул: «Ах ты, мастерица-искусница! А есть в тебе дар божий! Не ожидал я прыти такой! А коли мужу за ночь рубаху вышила, чего б тебе и мне не вышить, а? Уж порадуй батюшку!»
Она и старалась, что ей, сложно разве? Для своей-то семьи родной! Теперь-то из всех близких у неё лишь они, почитай, и остались. Жаль только, от её стараний мало проку оказалось.
В путь отправилась с рассветом. Потирала раскрасневшиеся и кровоточащие на трещинках бородавчатые руки, дышала в ладошки, чтобы отогреть нос, и ждала, когда Ярило смилостивится и даст тепла поболе. Но сегодня Ярило, похоже, был занят, и небо заполонили низкие тучи, грозя стылым дождём.
– Кабы не захворать на беду, – опасливо поёжилась царевна, видя впереди полосу леса и речку.
От неё несло стылым туманом, и бурлящая на порожках вода нисколько не походила на кипящую, как любили сказители сравнивать.
Впрочем, сказки Василиса слушала всегда охотно. Особенно, когда дед Тихон рассказывал. Так-то он больше книжки умные читал и её приучал к науке, бередя душу грёзами. О чудесах заморских, о битвах славных, о временах дремучих. Как травками лечить, как три ведра одной рукой за рычаг поднять, как без пальцев числа перемножать да делить. Про воевод давних сказывал, которые из девяти княжеств одно большое царство собрали против хазарского хана и царя Радосве́та над собою поставили. Про Чан Чубея, что житья не давал, да пал от войска царского. Про Мормаго́на-воеводу, что с самой Мареной шутки шутить посмел, да против рати в одиночку мог выстоять. Про Марью Море́вну, царицу вздорную, что сама и на коне скакала, и мечом махала, и даже супруга себе выбрать пожелала, какого самой захочется. Про Берими́ра – царя нынешнего, что в юности, когда царевичем был, один-единственный средь братьев живёхонек остался, когда отец его заподозрил, что царица неверна была. Хватало историй.
Но по вечерам бывало, как сядет дед, книгу на колени положит, а сам в стену бельмами глядит и бает на свой лад. Про чудищ, про колдовство светлое и тёмное, про зало́жных да мавок, про Ягу и Кощея. И так хорошо было, спокойно, что после даже собаки по ночам не снились, а сразу утро наступало. Эх, знал бы дед, что теперь она – беглая царевна, идущая в Кощеево царство! Вот бы удивился.
Свернула вверх по течению и побрела вдоль берега, пытаясь найти переправу или брод. Короткие волосы всё больше лохматились без гребня и с непривычки постоянно выбивались из-под косынки, завешивая глаза и попадая в рот, но косу было не жаль. Вернее, не так жаль, как всё остальное.
Вспомнила, как радовалась тогда, в бане, накануне венчания. Когда девки вплетали ей цветы да ленты. А позже махнули серпом у самого затылка и за раз отхватили всю красу девичью. Тогда Василиса не задумывалась, что рановато. Потом уже поняла, что поспешили. Теперь она с виду уже женщина ведающая, а по сути – всё ещё девица. Но разве было место сомнениям в час, когда боги сами решили, что пришло её время?
– Послать бы весточку тебе, Иванушка! – вздохнула Василиса, глядя в серое небо. – Чтобы знал ты, на что решилась я ради любви нашей. Что не бросила я тебя, не отвернулась, не затаила обиду. А уж хоть, сгину если, чтоб сказать тебе, что не пустая я, что сердце у меня храброе и верное…
Осеклась, пискнув на шорох неподалёку в траве, но змея оказалась простым ужиком и безобидно прошуршала прочь. Царевна скрежетнула зубами и потупилась. Никакое и не храброе сердце, а простое, что в пятки как убежало почти седмицу назад, да так там и сидит трусливое!
– Прости ты меня, Иванушка! – всхлипнула она, продолжив идти. – Худая из меня жена вышла. Мало того, что на лик дурная, так и нравом непокорная! И проще мне уж к Кощею за погибелью, чем опять на глаза тебе такой показаться. Вот вернусь – тогда. И буду тебе женою, как и велено богами. Пригожею, кроткою и верною.
Вздохнула. Вспомнилось матушкино проклятье. То, что она повторяла чаще прочих, но почти без злобы, как обычно, а даже немного с сочувствием. «Никто тебя такую замуж не возьмёт! Никому ты така не нужна, Жаба! Так что радуйся, что хоть я тебя такую люблю! А боле никому тебя и не надобно!»
Обычно мама после этого плакала. Обнимать себя не давала – тоже брезговала, но как-то раз по волосам погладила. Василиса после того седмицу целую всё, что не попросит, делала. Да потом как-то оно назад всё незаметно вернулось.
Пальцы всё ещё чуть саднили после иглы, которой она сначала мужу рубаху вышивала, а затем царю. Искололась в темноте, да зато рубашки на совесть вышли. Пусть и смеялись другие царевны, да что с них, боярских да купеческих, возьмёшь? За них девки чёрные всё делают, а Василиса сама, с любовью. Царь-батюшка-то как хвалил да языком цокал! Так понравилось, что потом ещё и ковёр ей соткать к себе в палаты доверил!
После ковра тоже ещё мозоли на руках не зажили. Саднили чуть-чуть, но на холоде почти незаметно. А вот пятнышко ожога, куда капнул воск венчальный, уже исчезло, затерявшись среди прочих – жабьих. Жалко.
Когда она устраивалась на ночлег чуть дальше от берега в корнях старой ели на опушке, вспоминала этот момент. Перед глазами так и стояло благостное лицо царя-батюшки, что с одобрительной улыбкой смотрел на сыновей и их невест, покуда ритуал брачный шёл, а сама Василиса впервые в жизни чувствовала, что будет и ей в мире место. Своё, не приживалки, а по праву.
«Они полюбят меня! Обязательно меня полюбят! А я уже люблю их всех. У меня же теперь есть настоящая семья! Большая! И Иванушка теперь супруг мой! И пусть дрожит сейчас, да всё я сделаю, чтоб полюбили меня! Я же теперь – невеста! Я – царевна! Я за семью теперь в ответе! – шептала она тогда себе, глядя на чадящее пламя свечи, и чувствовала, как в груди поднимается что-то, заставляющее уродливые толстые губы растягиваться в улыбающуюся жабью рожу. – Уж я постараюсь, уж я всё сделаю! Всё, чтобы они не пожалели о воле богов, которая меня к ним привела…»
На этом воспоминания померкли и сменились уже привычным с детства сном, где царевна ещё не царевна, а обычная девка. Бежит себе, бежит по полю, затем за околицу, через чащу, а оттуда на сеновал, чтоб спрятаться. Ещё чуть-чуть – и появятся, уж с улицы слышен лай…
Наутро стало совсем зябко. Жухлую траву посеребрил иней, изо рта вырывались белёсые облачка, а руки уже кровоточили не только на костяшках, но и на всей ладони.
– Жабья шкура! – с досадой прошипела девушка. – Мало того, что страшная, так ещё и с любого ветерка болючая! Эх! – и засунула кисти в рукава поглубже.
Припасы кончились, а ягоды с орехами, что попадались на пути, особо живот не грели. Похоже, зима решила поспешить, заставляя неповоротливый октябрь скорее пропустить её вперёд верхом на покладистом ноябре, что любил выбеливать поля, едва вступал в силу.
Места, через которые шла Василиса, пока были людными, да она обходила селенья по широкой дуге. На большак даже издали глядеть боялась, а сельские дороги чаще старалась перепрыгивать, едва касаясь земли, чтобы не оставлять запаха. Так-то недавний ливень всё смыл, и собаки старый след не возьмут. Но это только если новых следов им не оставить.
Что по всем мало-мальски значимым дорогам погоню пустили – как божий день ясно. Беримир строг был, коли что не по его воле – из-под земли достанут.
– Ох, лишь бы мельнику с семьёй ничего не сделали за то, что меня приютили! – сжимала кулачки царевна, чувствуя, как тревожно в груди.
Видала она в детстве как-то, как царская дружина ловила заговорщика, что царя-батюшку в Навь отправить раньше времени хотел. Ох, лай стоял! Попадаться такой же своре совершенно не хотелось. Пусть Василиса и понимала, что её как того предателя рвать не будут. Напугают лишь. Как обычно, пёсьей слюны набрызгают, а потом оттянут, чтоб не навредили лишнего. Да и мельнику скорей плетьми всыплют и отпустят с богами дальше муку молоть. Так-то страшно, да хоть живые будут.
– Эх, и зачем я к ним пошла? – махнула она кулачком, серчая на собственную слабость. – Мне-то бока разок обогреть, а им – отвечать за меня! Нельзя добрых людей подводить, нельзя!
Но чем дальше, тем больше приходило в мысли, что придётся всё же рискнуть и людям показаться. Делать-то нечего: или окостенеть в лесу, или идти к кому на поклон да просить ночлега и еды в надежде, что не отыщут их царские ловчие.
Уже темнеть начало, когда впереди почудился запах дыма. Но не такой, как когда неподалёку большое селенье, а так – будто костерок одинокий.
Долго подходила к нему Василиса. И так таилась, и эдак. Даже радовалась немного, что рожа у неё зеленоватая и рябая – не так заметна среди зарослей. И косынку светлую с головы спустила, чтоб не маячила. Да только зря беспокоилась, потому что то не костёр егеря был, а изба одинокая. И, судя по виду, очень старая.
– Ну, двух смертей не бывать, одной не миновать! – вздохнула царевна и вышла на полянку.
Изба стояла на высоких сваях и сильно напоминала домовину2. Да и принять за неё-то можно было бы запросто, не будь она такой большой, будто терем боярский. В два этажа, шириной с три телеги! «Это ж кто такую поставить-то смог? – подумала девушка. – И оттуда ли дым летит? Аль рядом кто костерок затеплил, а внутри ни души?»
Василиса обошла домовину кругом, но нигде не обнаружила ни крыльца, ни лестницы, ни двери. Даже бревна с зарубками не лежало. Лишь запах дыма усиливался, да не костёрный-лесной, а будто печку внутри поленьями берёзовыми топят – по-домашнему.
– Это что же это? – в замешательстве вздыбила бровки девушка. – Изба не изба, пуста не пуста. Ни души вокруг, а ножки курьи столбами стоят – того и гляди зашевелятся! Неужто за Ягой нашей кто подглядел? Поставил себе такую да живёт внутри теперь, как она?
– Это какой-такой Ягой?! – раздался совсем рядом низкий женский голос. – Это кто это «как она»?!
Девушка ахнула и шарахнулась к лесу, да на бегу запнулась о корягу и повалилась наземь. Сарафан треснул, а из горла помимо воли вырвался жалобный стон.
– Да ну куда ты?! – послышался оклик, но тон был уже не такой возмущённый. – Раз пришла-то, то куда уж на ночь глядя-то, а? Вертайся да говори, с чем пришла. Сегодня ночка лютая будет, неча тебе в лесу одной делать.
Немного отдышавшись, Василиса обернулась, но никого не увидела. Поднялась на четвереньки, затем медленно встала и сделала пару шагов к избе.
– Покажись, – стуча зубами, не то приказала, не то попросила она.
– А ты ближе подойди – и увидишь, – усмехнулся голос и начал отдаляться по направлению к высоким сваям: – Сюда, красавица, иди смело.
Низкие тучи как раз заморосили дождём, и царевна поняла, что делать нечего – в домови́не и то теплее, чем под небом стылым. Но всё же сперва стребовала, как дед Тихон сказками научил:
– Слово дай, что беды́ не натравишь, врагом не поставишь, что сердцем открыта, а злоба зарыта.
– Да даю-даю! – вздох, с которым с силой отмахиваются, казалось, долетел ветром до щеки. – Что ж я, дитя одну в лесу оставлю? Больно надо мне такой грех на душу, и без него хватает! Иди давай, девица, а то скоро буря грянет.
Осознав, что задувающий в рукава и под подол ветер заставляет выплясывать не только зубы, но и всё тело, Василиса решилась и пошла на голос. И едва приблизилась на пять шагов к избе, как внезапно картина переменилась, и вот перед ней уже не домовина старая, а уютный терем с горящими окошками, распахнутыми дверьми и высоким крыльцом, с которого улыбается кудрявая полуседая женщина в цыганской одежде.
– Давай-давай, краса, – поманила она, – смелее. Дом выстудили уже! Ох и устрою я пакостникам этим, что слухи про меня злые распускают! Ох и устрою!..
С этими словами она развернулась и, чуть подволакивая ногу, стала подниматься, вынуждая озябшую гостью последовать примеру.
Оказавшись в сенях, царевна разом ощутила, насколько замёрзла и насколько голодна! А из светёлки уже нёсся дивный аромат свежего хлеба, жареной дичи и душистого сбитня.
– Как звать-то тебя, девица? – с усмешкой спросила цыганка, прилаживая за спиной гостьи засов на дверь.
– Василисой, – ответила она, не решаясь пока снять полушубок.
– Это та, что Царевна-Лягушка, что ли?
От едва потеплевших щёк отхлынуло, девушка попятилась, но деваться было уже некуда – дверь заперта.
– Да не бойся ты! Слово ж дала тебе! – с досадой тряхнула кудрями женщина.
– А откуда знаешь, что я́ это? – чувствуя, как вернувшееся из пяток сердце бьётся аккурат у ямки под горлом, спросила Василиса.
– Да уж сложно не знать, – усмехнулась хозяйка, – кадыть всё царство гудит, мол, сбежала царевна! Ликом страшна, душою черна, колдовством злым мужа проклясть хотела, а как не вышло, так в бега и ударилась!
– Это что же, про меня всё сказывают?! – опешила девушка.
– А ты ещё беглых царевен знаешь, а? Красавица? – хмыкнула цыганка и, уставив руки в боки, кивнула вглубь терема. – Давай уж, снимай шубу свою, я баньку уже протопила, сейчас попаримся опосля ветра студёного, косточки прогреем, а потом и вечерять сядем. Тогда и расскажешь, как на самом деле было.
– Ты… мне веришь? – с надеждой спросила Василиса, таки стягивая полушубок.
– А ты мне? – дёрнула бровью женщина. – Про меня тоже всяко сказывают, да гляди ж ты – ещё в печи не зажарила! – и невесело засмеялась.
– И то верно, – с благодарностью кивнула гостья. – А тебя-то как звать, хозяюшка?
– А ты, выходит, когда шла, и не знала, к кому? Али просто мимо проходила?
– Ночлег искала, – призналась девушка, растирая рябые руки и наконец-то не чувствуя ломоты в заиндевевших запястьях.
– Понятно, – усмехнулась цыганка и сказала: – Ягой зовут. Коли не догадалась ещё.
И цыкнула, показав острый клык.
***
Чуть погодя, когда они, отмытые, сидели за столом, доедая сытный ужин, Яга припоминала, какое у царевны было лицо, и посмеивалась.
– Как дверь мне не сломала, не ведаю! – говорила она, сощурившись в ответ на румянец, проступающий сквозь зелень и пятна на щеках гостьи. – Да меня так Егорка-дурак не боялся, когда за зелье фальшивыми монетами по недомыслию расплатиться хотел! Это ж кто тебе так мысли напутал, что ты меня сначала не признала, а потом чуть Серой дорогой не ускакала прежде времени?
Василиса же разводила руками:
– Так ведь всяко сказывают. И что деток воруешь, что мор насылаешь, и в печи человечину готовишь да ешь. Что нос у тебя в потолок врос – такой длинный, что глаз дурной, что кость заместо ноги. Что волю дай – изведёшь род людской! Потому и боятся идти за помощью. Больно колдовство злое. И дорогое, – и поёжилась: – Я б, коли не нужда, и не пошла бы! Дед Тихон настрого предупреждал…
– Это к кому это? К ведьме вашей, что именем моим зваться посмела? – ревниво передёрнула плечами женщина.
– Дак Ягой назвалась, Ягой и живёт, – в замешательстве отвечала Василиса. – Меньше двух лучин от столицы изба её. На курьих ножках, как и положено. Снизу костьми усеяно, сверху вороны сидят, глазами чёрными блестят. И сама она носата, лохмата, клюка с черепом, бусы из зубов человечьих, а вместо ноги, – склонилась и тише сообщила: – стучит что-то под юбкой. Её боятся все, да знают, что ежели заплатить хорошо, то что попросишь – сделает, – и шёпотом прибавила: – Даже худое.
– «Яга», значит, – процокала острыми ногтями по столу хозяйка. – И что, давно эта «Яга» у вас там поселилась и дела свои тёмные делает?
– Да, почитай, с век уже, по словам её, – развела руками царевна. – Мол, жила-то в лесу раньше, а теперь время род людской от погибели избавлять. Вот избу вёсен пять назад к большаку и привела. Там и осела, чтоб, значит, колдовство своё вершить за плату. Мне дед ещё втолковывал, чтоб не ходила в те края, коли погибели сыскать не хочу. Правда, вряд ли съела бы меня она… Меня и трогать-то брезгуют, а есть уж! Куда там!
– С век? А не брешет ли, хм? – ехидно качая головой, будто зная ответ, подпёрла Яга кулаком подбородок. – А может, приблудилась к вам ведьма, про себя рассказала, что сама хотела, наврала с три короба, а вы и верите, м?
– Это что же, не Яга она никакая, что ли?
– Да какая ж Яга, коли я – Яга?! – и развела руками. – Я такая одна на целом свете есть. Как род людской появился, так и я вместе с ним. Давно уж Яга я.
Василиса примолкла, оглядывая собеседницу пристальнее. Свет свечи являл её облик отчётливо, и совсем не казалась она настолько старой. Ей по крестьянским меркам и тридцати не дашь, а впрочем… При первой встрече лицо было гладким, почти молодым, сейчас же гостья рассмотрела глубокие морщины по бокам от губ и над бровями. Нос, казалось, стал длиннее, а бородавка на нём больше.
– Что? Заметила-таки, девица? – цыкнула Яга и дёрнула губы в улыбке. – Была б я самозванкой, такой бы и сидела, как встретились. А так, чем ночь темнее, тем я старее. А в полночь преставлюсь и так до рассвета и буду лежать. Так что ты, девица, не пугайся. Спи себе, а утром встретимся.
Когда стелила, уже совсем сгорбленная была, да гостье не дала работать – отдыхать велела. Оставила в опочивальне одну, а сама в свою пошла. Пошебуршала за стенкой у потолка, поскреблась, а в полночь всё затихло, и лишь воющий ветер за окном разбавлял звон в ушах.
3. Поминальная ночь
До самой зари Василиса глядела в темноту небольшого окошка и слушала, как беснуется снаружи буря. Чистая рубашка до пят ласкала истерзанную холодом кожу, толстое одеяло кутало тёплыми объятьями, да всё равно дрожала царевна как лист осенний, покуда не сморило от усталости. По привычке лишь попыталась приподняться, когда тусклое солнце мазнуло листву, и тут же провалилась в вязкий сон опять.
Когда нашла она в себе силы раскрыть глаза полностью, давно уже зенит миновал, сменившись серым дождливым днём. Кряхтя и перебарывая ломоту в теле, девушка поднялась, выбираясь из одеяльих лап, надела лапти и спустилась в светёлку, откуда раздавался звон посуды.
Зашла и обомлела: там лёгкой походкой носилась девица юная, чернобровая, пышногрудая. Кожа, что молоко парное, глаза, что небо звёздное! Разве что в угольно-чёрных кудрях из-под косынки выбивалась седая прядь. Прям сорока-белобока!
Завидев вошедшую, девица встала посередь комнаты, улыбнулась и радостно пожелала:
– Утро доброе тебе, Василиса! Как почивала?
Приглядевшись, царевна сглотнула и спросила:
– Яга? Ты?!
– Я! – с гордостью подбоченилась та, а затем махнула рукавом: – Давай, помогай! Покудова я молодая, надо хозяйство всё справить, а к вечеру уж будем разговорами баловаться – всё равно на улицу сегодня не пущу, серчает ветер, не хочет зиме тучи летние отдавать.
За окном, будто в ответ, ещё сильнее потемнело, нахмурилось. Раздался вой и скрежет, как когда ели к земле гнутся. По стеклу в оконце вдарило капелью, словно просом швырнул кто.
– Вон, слыхала? – хохотнула Яга. – Это не шуточки! Самая лютая ночь впереди, людям добрым покоя нет, так что давай, красавица, умывайся иди, и будем тесто месить, пироги печь!
Делать нечего, и гостья повиновалась. Умылась быстро, а после, привычно засучивая рукава, присоединилась к стряпанию. Глядя на то, как чернобровая управляется с хозяйством, казалось, будто вместо неё одной их с дюжину набралось – так споро и складно выстраивались пироги на столе. Чуть не до потолка высились да качались.
– Это куда ж столько? – ахнула Василиса, когда поняла, что рук не хватает до вершины горки добраться.
– Угощение это! – ответила вспотевшая Яга. – Поминальная ночь. Всех покойничков уважить надо, кому родичи гостинцев принести пожалели, аль не смогли. Давай-давай, девица, до сумерек управиться надо! – и дальше в печь полезла за новыми.
Как солнце село, Василиса вновь обернулась на стол с пирогами. Глядь, а нету их уже – пустая скатерть, будто и не было ничего!
– Вот таперича и отдохнуть можно, – смахнула пот со лба женщина, отбрасывая седую прядь. – Садись, царевна, вечерять будем.
– Дак чем вечерять, коли всё, что настряпали, всё пропало?
– А скатерть-самобранка на что? Мы-то живы ещё! – усмехнулась Яга, встряхнула ту, что на столе лежала, и вмиг появились там и каша, и кисель, и рыба с мясом, и даже лебедь запечённый.
– Неужто колдовство это? – ахнула царевна, а хозяйка, гордо подбоченясь, кивнула и пригласила за стол.
Признаться, так вкусно и сытно не кушала Василиса даже за столом царским. Да пусть и там лебедей давали, да те больше перьями белыми хороши были, а на вкус, что солому жевать. Зато здесь дичь будто сама на тарелку прыгнула и поворачивалась в печи, чтобы со всех сторон подрумяниться и вкусною быть.
Наевшись, сели они, на стенки избы откинувшись, взяли по чашке душистой и примолкли. Спокойно было, и свеча фитилём мерцает, не чадит, а будто подмигивает лениво, по-кошачьи.
– Ноги гудят, – с теплотой сказала Василиса. – Да не как опосля пути, а привычно – по-домашнему. Я так, деду Тихону когда стряпала, уставала. А вечером садилася, как ест смотрела и радовалась. Жалко его было, совсем слепенький, не видел, какой жабий облик у меня, вот и приветил. А мне и хорошо ему стряпать. Всё ж приятнее, когда кому-то сделал, а он радуется.
– Угостила ты Тихона сегодня, девонька, угостила, – покивала Яга. – Сама пирог ему спекла, сама и отправила, уж я проследила, так что знай – сыт батюшка твой.
– Да не батюшка он мне, – с грустью пробормотала Василиса. – Мой-то батюшка до сих пор живой в селе поля пашет, на балалайке играет. Знать меня не знает и не хочет знать…
– Ну и какой он батюшка тогда?! – перебила женщина. – Пустое, а не батюшка! А дед твой Тихон тебе роднее крови, потому как сердцем тебя признал, а не словами.
В груди потеплело, и девушка благодарно улыбнулась, положив ладонь на ворот рубашки.
– Спасибо тебе. От сердца спасибо. И что приветила, и что ночевать впустила, и что от души накормила-напоила. И за то, что слова доброго не пожалела. Спасибо тебе, Яга. И вовсе не страшная ты. Теперь-то я вижу. А что сказывают, так люд вообще сказывать любит…
– Уж любит! – согласно усмехнулась та. – Да, впрочем, частью-то правду говорят. Не все от меня живыми уходят, да тут уж не от меня зависит дело, а от того, кто пришёл. А потом бывает, отправится кто-то ко мне со злым умыслом, не воротится, а про меня сказывают опять новое, что извела душу честную.
– А про меня что сказывают? – внезапно спросила Василиса, а затем потупилась, но всё же продолжила: – Ты говорила, мол, царство гудит, что душа у меня чёрная и что Иванушку проклясть хотела.
– Ох, много слыхала я! – отозвалась Яга, сжав рукой кружку со сбитнем, а на коже уже проступили первые пятна старости. – Людям же ж только волю дай – уж они набают! С горочкой! – устроилась поудобнее, с царапающим шуршанием передвинув ногу по полу. – Слыхала, мол, лягушкой ты была. Что царевич тебя в болоте нашёл, а ты на него приворот наслала, девицей прикинулась, вот он и женился на лягушке самой настоящей.
– Да неужто?!
– А что, не так было? – в шутку спросила Яга, но гостья не услышала подвоха и возразила:
– Нет! Никогда я лягушкой не была! Это потом уже царь-батюшка меня так решил называть в награду за рукоделие моё, а так-то я всю жизнь Жабою звалась. Только вот обличье у меня одно – это. И перекидываться зверем я не умею. Умела бы – давно б упрыгала в болото, где мне и место!..
И всхлипнула, прикрывая лицо ладонью. Видя это, Яга охнула и отвела её руку:
– Ну чего ты, красавица? Не место тебе в болоте, тоже удумала! В болоте болотник сидит, комары да гады, а ты – дитя человечье, пусть и с лица не такая.
– А ты что же, совсем не брезгуешь мною? – спросила Василиса, глядя на свою уродливую руку в крючковатых пальцах.
– А ты мною? – усмехнулась Яга.
– Нет.
– Вот и я – нет.
За окном бесновался ветер. Выл в щелях, стукал ставнями, царапал летящими сучками и мечущимися ветвями. «Хорошо, что я не дома», – подумала царевна, вспоминая, как в Поминальную ночь в избе гасли свечи, а матушка ложилась на лавку лицом к стене и молчала. Сейчас было спокойнее. И уж точно лучше, чем ежели в лесу ночевать!