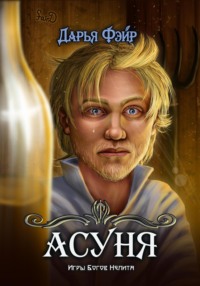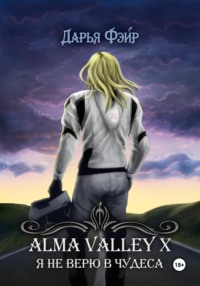Полная версия
Игла в моём сердце
– А Камил – это кто?
– Камил? – охнула старушка со смехом и пояснила: – Так Камил и есть – Кощей наш. Да только давай-ка потолкуем о том позже. Тебя, красавица, сейчас надобно в порядок привести, а потом уж разговоры и разговаривать.
Они миновали двери, прошли через открытый двор-колодец между высоченных чёрных башен и свернули к пристройке с косой крышей. А оттуда, уже из дверей огонёк затеплился настоящий – рыжий, тёплый, с ароматом берёзовых поленьев. И пирогами запахло так, что аж слёзы выступили, защипав щёки.
– Ох-х-х, – само собой вырвалось у гостьи, а спутница ободряюще сжала её руку:
– Натерпелась, дитя, – и покачала головой. – Ну ничего, теперь уж позади самое страшное, не дам я тебя в обиду никому, красу такую.
Чуть оказались в сенях, старушка велела раздеваться до рубашки. Вещи забрали слуги, а провожатая провела дальше в светёлку, там вручила кружку с кипячёным молоком и проследила, чтоб подопечная до дна выпила, а затем, как и положено, в баньку по соседству отправила.
Когда Василису отпарили молчаливые бабы, одна из которых всё время вбок голову отворотить норовила, а другая живот придерживала, девушка уж думала, что не дойдёт назад – так разморило. Умаялась после длинного пути и всего пережитого. Но пришлось собраться с духом и отправиться к Кощеевой матушке, что поджидала в горнице, где постелили для гостьи, а заодно и ужин поздний накрыли.
– Я-то, Василисушка, уж не той силы уже, – грустно улыбаясь, пожаловалась старушка, кивая на стол. – Стряпать-то могу, да всё ж лучше у них получается-то. Камила разве что радовать пирожками пытаюсь, чтоб совсем не захолодел, но всё реже с годами получается.
Гостья, что облачилась в хозяйскую чистую рубашку до пят, тем временем расчёсывала короткие бабьи волосы и молчала, не зная, что ответить на такое, чтоб не обидеть. Как про возраст тут не спросишь, а всё равно получится, что старухой обозвала. Да собеседница словно мысли её читала и продолжила сама:
– Мне, красавица, лет уж больше по три раза, сколько отведено было. Я-то живая сама пока, да на Калиновом мосту стояла. Не смог Камил отпустить меня, не дал на ту сторону ступить и назад вернул. Вот с тех пор я уж почти век здесь, с ним. Слежу, чтоб чернокрылый мой совсем облик человечий не потерял, а то как ему одному среди беспокойников этих?
– Беспокойников?! – воскликнула царевна и аж гребень уронила.
– А ты ж чего думала, а, красавица? – усмехнулась старушка. – Живых тут и нет почти. Я, да ты, да сынок мой. А беспокойники с той стороны идут, вот Кощей и даёт им выбор: служить аль назад возвращаться. Те, кто назад возвращаться не хочет, у нас остаются и службу служат, покуда время не придёт смириться.
– Так то и впрямь заложные были?! – сглотнула Василиса, сжав гребень так, что зелёная рука аж побелела, а трещинки на заветренных запястьях вновь закровоточили.
– И заложные есть, куда ж без них? – закивала матушка. – И упыри, и вурдалаки, и даже иго́шенька есть у нас. Так что, ежели плач услышишь, не подходи, пусть плачет. Шалит он так, тешится, нравится ему.
– Игошенька? – похолодела девушка. – Это чей же?
– Дак знамо чей, – пожала плечами старушка и принялась рассказывать: – Давно это было, полвека уж как. Приблудилась к нам как-то девка на сносях. Говорит, мол, погнали меня восвояси, идти некуда, жить не на что, родня знать не хочет. А отец ребёнка – не супруг ей, а разбойник. Без свадьбы взял её, а после уехал не оборачиваясь. Плакала, жалилась, да некрасивая она была. Камил меня тогда не послушал, дал приют ей. Да и я-то – ну куда? Пусть и не красавица, да как с таким-то животом на мороз выгнать? И у меня сердце не железное…
– И что же? – не выдержала паузы Василиса, когда старушка прервалась на то, чтобы глотнуть из своей кружки. – Дитя мёртвым родилось?!
Матушка сжала морщинистые губы в улыбке, покачала головой и ответила:
– Живёхоньким, на весь замок крику было! Хорошее дитя уродилось, здоровенькое, румяное. Даже Камил повеселел, пожаловал ей тогда и шубу, и брошь драгоценную. Да только она, как дитя сбросила, ещё некрасивей стала. Где сокровища его лежат, углядела, момент улучила и целый сундук с каменьями да монетами хвать – и дёру. А на дитя рук и не хватило уже.
Царевна прижала ладошки ко рту и охнула, а старушка продолжала:
– Я младенчика отыскать вовремя не успела – старая ж, глаза не видят, а замок у нас большой. Уж заиндевел весь, когда в углу нашла. Зато после этого игоша у нас завёлся – всё ж радость, хоть такое дитя в доме.
И сложила морщинистые руки замком на груди с таким благостным выражением лица, что Василиса поёжилась. Уж чего-чего, а игоше радоваться только в Кощеевом замке и могут!
Стараясь не думать о том, где сейчас затаился демон, Василиса встала, подошла к застеклённому по-богатому окошку без занавесок и выглянула в темень. Ночь кромешная, лишь кое-где меж чёрных башен видно чуть более светлое серое холодное небо. И только далеко наверху вдруг, как звездой, огонёк в башне напротив сверкнул.
– А что же Кощей-то? – спросила она, вглядываясь в едва заметный отблеск. – Отчего Камилом зовёшь его, матушка?
– Так имя его, – как несмышлёнышу ответила старушка и пояснила: – Нынешнего Кощея. До него другой был и после новый придёт.
– А как же так-то? – в недоумении обернулась девушка. – Я ж думала, что он как Яга! Появился в незапамятные времена и с тех времён так и живёт на свете. Аль нет?
– Так то Яга! – морщинистая рука махнула куда-то, где, по всей видимости, находился юг. – А у Кощея другая задача – он Явь от Нави стережёт. По эту сторону речки Смородины стоит, а по ту – Змей Горыныч.
– Горыныч?! – ахнула царевна, а собеседница глянула в её сторону чуть осуждающе и велела:
– Ты ужинать садись, а то стынет всё! Голодная, небось, а тебе силы нужны опосля холоду такого! Разболеешься же, дитя! А пока ужинаешь, слушай дальше.
Пришлось подчиниться и усаживаться за богато накрытый стол. И не то чтобы не хотелось есть Василисе, да как-то казалось, что не полезет кусок в горло после всего. Впрочем, едва она первую ложку в рот отправила, как все печали померкли, отошли, будто спрятались, и дальше она уплетала за обе щёки, пока старушка рассказывала:
– Кощей наш от беспокойников мир охраняет. С этой стороны, с Явной. А Змей от тех, кто раньше срока в Навь сунуться пробует. Так что нельзя Кощею бессмертным быть, он из смертного рода приходить обязан. А чтобы Кощеем стать мог, на Калиновом мосту побывать надобно. Да только так, чтобы на мост ступить, но на ту сторону не пройти, а вернуться.
– Это что же? Как ты, матушка? – охнула гостья, а та подтвердила:
– Почти, красавица! Только вот мне срок пришёл, и я уж уйти хотела, да не пустил меня чернокрылый мой. А Камил сам трижды туда в юности не своей волей отправлялся и трижды по своей воле возвращался, – и с гордостью покачала головой: – Ох и крепкий воин был! Ничего не страшился! Никому не сладить с ним! А как мечом махал – целые рати замертво падали! Мормагоном прозвали его за это. За это, да за то, как от смерти уходил трижды.
– Мормагоном? Мормагоном-воеводой? – охнув, нахмурилась девица. – Неужто тот самый это Мормагон?! Слыхала я про него как-то от деда своего. Сказку баял про богатыря, что саму Марену одолел. Книгу показывал, в которой написано, а она старая-старая… Неужто про него?!
Голова в пуховом платке меленько закивала:
– А про кого ж ещё? Про него са́мого! Не всяк со смертью играть решится, а Камил играл, да с честью каждый бой выигрывал! – и с гордостью улыбнулась, но затем, помрачнев, вздохнула. – Только вот за каждый раз потом пришлось родне его расплатиться… Он-то богатырём знатным уродился, с отрочества в битвах тешился, а как отца и мать его Марена прибрала – как отрезало. Заперся в тереме и в науку ударился, за книжки засел. А через год дружину распустил, меня в сани усадил и за тридевять земель к тогдашнему Кощею в ученики подаваться и поехал. С тех пор тут мы.
– Так как это так-то? – задумчиво развела руками девушка. – Толкуешь, что мать его умерла… А коли та – мать, то ты тогда кто?
Старушка улыбнулась так, что аж морщинки лучиками из уголков глаз прыснули, будто маленькие солнышки зажглись.
– Я-то? А я-то кормилицей ему буду. С пелёнок растила, каждую беду вместе проживала, быть сильным и честным учила, чтоб не сгубила его обида, – и старушка, нащупав, почему-то погладила царевну по зеленоватому запястью. – Хорошим он ребёнком был, славным, – а затем, чуть погрустнев, вздохнула: – Я своих так и не понянчила. Трижды на сносях была, и трижды ещё в утробе Марена забирала… Так что Камил мне, пусть не по крови, да сын родной. Нет у меня родича ближе.
– Да что та кровь? – сморщилась Василиса, с ненавистью глянув на рябую зелёную руку под белой в благородных пятнышках старости. – По крови одно лихо от них и видишь. А без крови может случиться, что родней и не сыщешь! – и замолчала, чувствуя, как першит в горле, а глаза щиплет, потому как первым делом не про мужа своего подумала, а про покойного деда Тихона.
Стало стыдно. Но Иванушка всего-то ничего знал её, так что, может, и правильно? Они ж и не сватались как положено, и не готовились почти. Ни приданого, ни даже благословения родительского Василиса не получила, так что куда уж? Все традиции попрали в угоду воли царя, оттого и не пошло на лад сразу.
Да и в первую ночь всё нарушили: супругам же положено вместе быть! А как она могла, коли все с первой и до последней напролёт царские указы исполняла, а днём или спала, или новые задачи получала? Вот и не успела всем сердцем прикипеть к родному. Как скучать-то, коли даже ложе ни разу не разделили? А теперь когда уж свидятся?..
Старушка тем временем, слепо нашаривая на столе кружку, продолжала:
– Вот и Камил с кровной-то матерью не сильно ладил, – вздохнула, отпила и покачала головой. – Так-то любил безмерно, почитал, да только видались они редко. Батюшка его тоже – в походах да делах, некогда ему с сыном возиться. Вот Камил и рос сам по себе, что бурьян. Да как бурьян непобедимым и вырос. Его рубишь, а он знай себе растёт, да ещё крепче!
Василисе вспомнился образ колдуна, что возвышался над нею, подобно грозному истукану, и кивнула. По двору прошаркал кто-то с факелом, свеча качнула огоньком, а матушка, вздохнув, качнула головой в такт.
– Братьев-сестёр не послали Камилу боги, – продолжила она. – Из всей родни кровной лишь батюшка с матушкой и были. Да дядя по отцовской линии. За него и пошла мать его, как отца отравили, да недолго в супругах ходила – высохла вся и померла. Вслед за любимым в Навь отправилась, как и положено верной жене, что одного мужа навсегда выбирает. Камил после того в тоске совсем погряз, вот дядя к рукам и прибрал всё быстрей, чем опомнились. А как поняли, что всё уж, так и уехали к Кощею. А тот выучил наследника себе да и поставил на пост, а сам прахом рассыпался, вот и остались мы с Камилом одни самые близкие на всём свете.
– Выходит, что так-то сирота Камил-то? – взглянула Василиса на горящее огоньком окошко в вышине.
– Любой Кощей – сирота, – отмахнулась старушка. – Хочешь не хочешь, а по долгу службы положено всех пережить, так уж боги решили. Век человечий недолог, да ярок. А у Кощея, знай, одна задача – на страже стоять да мост охранять. В людском-то царстве своим чередом дела бурлят, поколения сменяются, а тут у нас из века в век покой, нет нам дела до людских страстей, и хорошо.
– Это как же так-то? – развела руками девушка, чувствуя свернувшуюся под горлом жалостливую печаль. – Это что же выходит? Весь век сидеть одному с беспокойниками да мост сторожить? А как же?.. – и она осеклась, вспоминая просьбу Яги, ради которой пришлось ночевать в колдовской домовине. – Это что же? И не погулять, и на пир не съездить, и дальние края не увидать?
– Ну почему же? – улыбнулась собеседница. – Вполне Кощей в праве и отдых себе устроить. Разве что отлучаться надолго не может, а так много чего ему подвластно и в этом царстве, и в прочих. Он же колдун всё-таки, а колдовство такие двери открывает, что смертному и не снились. Да только… – и опять вздохнула, – не до того Камилу. Сила Кощеева много жизни съедает. А он столько лет всего себя отдаёт, что как бы сам прахом не осыпался. Вот я и пеку пироги, покуда руки не отнялись от старости. Чтоб сердце теплом людским отогрелось и живым билось подольше.
Василиса оторопело взглянула на пустую тарелку, потом на узловатые пальцы, что едва заметно тряслись от старости, и как-то так грустно ей стало, что аж в груди защемило.
– А могу я, – начала она, осеклась, оробев от собственной смелости, но потом решительно продолжила: – Могу я помогать тебе, матушка? У меня-то руки крепкие, сильные, труда не боюсь, пироги печь любые умею, меня даже царь-батюшка хвалил на весь терем! – и тут же заверила по привычке: – Что кожа жабья у меня, так то не чурайся, не заразная! Я только на вид страшная, а так хоть кусай – не позеленеешь. Меня помощницей даже Яга брала и потом хвалила, так что толк от меня есть. Вдвоём-то точно полегче будет, а?
– Говорю же, – нащупала её пальцы улыбающаяся старушка и сжала, – красавица ты. Красавица писаная, не встречала я девицы краше!
Василиса хотела было возразить, да собеседница махнула рукой:
– Спать ложись, красавица. Ночь на дворе поздняя. Давно пора тебе уж! Намаялась, находилась, намёрзлась. До нашего краю добраться не всяк богатырь может! Даже навьими тропами. Так что теперь спи крепко да сладко и ни о чём не тревожься. Камила я уговорю, чтоб оставил тебя. До весны будешь у нас жить, а там уж вам с ним решать, не мне.
В кровать Василиса ложилась, стараясь не постанывать от наслаждения. И пусть у Яги намедни ночевала, но отчего-то казалось, будто тысячи вёрст те сама прошла, а не благодаря колдовству – так устала. Поглядела лишь в окошко, но ничего не увидела в кромешной тьме. Зевнула, натянула одеяло и только услышала, как тихо притворила дверь старушка, оставляя её одну.
7. Плач ворона
Проснулась она ещё до рассвета. Едва заря небо тронула, дверь в горницу будто тихо отворилась – тёплым ветром дохнуло, а следом на плечо невесомо легла рука.
– Что? Пора уходить мне? Передумал Кощей? Не удалось уговорить? – сонно сощурилась царевна, пытаясь разглядеть фигуру перед собой.
В комнате царила мгла, но заря в оконце всё же дала узнать светлый образ старушки, что почти неощутимо гладила по зелёной рябой щеке без отвращения, как дочь родную нежат.
– Вставай, красавица, – тихо проговорила матушка. – Пора тебе в твои палаты идти – приготовили.
– Палаты? – удивилась она, сонно озираясь. – А сейчас-то чего?
– Так лучше будет, девица, поверь мне, хорошо? – и жестом поманила за собой.
Василиса выбралась из-под одеяла, нашарила лапти и встала. Зябко поёжилась и шагнула к фигуре у окна.
– Ты, красавица, сейчас меня послушай, – подняла палец матушка. – За дверью Дунька Косоглазка стоит, ты за ней иди, – усмехнулась грустно: – Уж не говорливые у нас девки, ты прости. Подружки не найдёшь, но Дуньку я к тебе приставила. Ты ей приказ дай, она сделает, что нужно, аль проводит куда, как похозяйничать решишь.
Глянула в окошко на зарю и продолжила:
– Меня не ищи, собой занимайся. Тебе сейчас отогреваться надобно, так что лежи, ешь и пей. Сказки читай, аль вышивай. Хватит с тебя пока лиха, отдохнуть надобно.
– А как же? – протянула девушка. – А помочь я ж тебе обещалась, я же?..
– Успеется, – подняла ладонь старушка, – но не сейчас – позже. Сейчас в палатах своих обживайся, – глянула на тёмную башню на фоне неба и улыбнулась тепло-тепло, сама будто солнышко. Повернулась и заверила: – А Камила не бойся, не выгонит. Да только ближайшие дни на глаза ему лучше не попадайся, в башне пересиди. А дальше уж как отойдёт он, так и иди с угощением. Он-то на вид только грозный, а тепло живое очень ему надобно. А ты – красавица. Ты-то справишься – вижу.
Не успела царевна ещё что-то сказать, да и со сна не очень соображала хорошо, а старушка уже бесслышно посеменила к двери, маня за собой, и указала на выход:
– Давай, красавица. Ступай, – велела она и у самого порога остановилась. – И знай, Василиса, моё благословение есть у тебя. А дальше – уж сами решайте.
– Хорошо, – растерянно покивала девушка и потянулась к ручке.
За дверью и впрямь стояла молчаливая девка с пустым взглядом, а в руках свеча. На звук не среагировала, но едва Василиса вышла, двинулась по лестнице вниз. Царевна было за ней направилась, но остановилась и обернулась. Старушка следом так и не показалась. В темноте горницы удалось разглядеть лишь разгорающуюся зарю, что высвечивала за окошком тёмные, покрытые изморозью стены замка во дворе. Видать, отдыхать прилегла матушка.
– И верно. Столько хлопот из-за меня! – виновато вздохнула девушка. – Повезло же мне, что миловали боги и добрых людей послали.
Дунька Косоглазка послушно притормозила на ступенях, ожидая гостью, и тут же двинулась без оглядки, едва та отвернулась и сделала шаг вниз.
Шли они долго. Сперва спустились к каменной баньке, которая вплотную примыкала к этому крылу замка, чтоб Василиса наскоро умылась. Потом направились к выходу во внутренний двор. Сенной отдал царевне сапожки и набросил на плечи её полушубок, а затем с фонарём-черепом проводил через морозный тёмный двор в противоположное крыло. Едва они оказались внутри, полушубок забрали. Только вот, похоже, беспокойники не заметили, что в тёмных сырых хоромах ещё холоднее, чем на улице. Но спорить Василиса не решилась и пошла за бредущей вверх Дунькой по длинной винтовой лестнице.
Впрочем, когда поднялись до нужного этажа, она уже забыла о полушубке, что нёс следом сенной, а вытирала со лба пот и задыхалась. Мужик же, как и приставленная заложная, казалось, и не заметили, сколько ногами отмахали, а стояли себе, и ни груди не вздымалось, ни пара из ноздрей и рта не валило. Зато хоть студёный воздух тут был не таким, как вчера у Кощея, а как и бывает с мороза на рассвете – вроде и холод лютый, но хоть мёртвым себя не чувствуешь, и даже румянец задорно разливается, отогревая рябые щёки.
Оказались они на небольшой полукруглой площадке перед дверью. Сенной молча передал девке полушубок и ушаркал прочь. Василиса глянула ему вслед и аж пошатнулась – винтовая лестница тянется и тянется вниз, что посмотришь, и голова кружится. «Кабы не упасть!» – подумала она и отошла подальше от перил.
На чистых каменных стенах, что были не такими сырыми, как внизу, горели факелы. Не терем царский точно, зато и не так, как у Кощея при входе, где до потолка богатства несметные каменьями да златом сияют, будто выставленные напоказ. Дверь тоже хоть и добротная, но без изысков, только ручка красивая медная, с узорами. За неё Дунька и потянула, открывая вход в широкую светлую горницу, коих Василиса на своём веку ещё не видывала.
Как во сне прошла она вперёд, оглядываясь, да и не выдержала – присела на крышку богатого сундука напротив окна, что вширь, как счастливая улыбка вверх тормашками, тянулось и тянулось, даже руками не обхватить! Ни занавесок, ни ставень как вся душа нараспашку. Если бы не чистейшее стекло, ветра́ бы все ковры вынесли с таким-то простором!
Предрассветное зарево уже позолотило горизонт, но солнышко не спешило просыпаться. Впрочем, и сейчас чисто выбеленные стены казались яркими, будто свет дневной. Комната, как две избы, большая, круглая, тремя ступенями вниз спускалась. Дверь выходила на среднюю, по которой и прошла царевна, чтобы рухнуть на сундук. Приставленная девка уже потушила свечу, примостила её на полку у зеркала, чистого, словно омут, и пошла вниз, к накрытому столу, что светлел скатертью у подоконника.
Василиса чуть отдышалась, огляделась и увидела за спиной, на верхней ступени кровать, да такую, что вся царская семья с боярами улеглась бы! Рядом ещё сундуки, комоды и прочая мебель. Шкуры да ковры, но тоже не как у царя-батюшки наваленные, чтоб побольше да побогаче, а на своих местах всё, и одновременно будто и много, но и просторно.
Внизу, возле стола, в стене потрескивал поленьями широкий очаг. Куда дым выходил – неясно, но что топят не по-чёрному, сразу видать по чистой штукатурке. Ни дыма, ни копоти, и поленья при этом, прям как на костре открытые, язычками пламени облизывают таган, на котором чайник висит.
Косоглазка пошла туда, выдвинула стул из-под скатерти, будто приглашая присесть, а затем подняла крышку с блюда, от которого завился густой парок. Одним глазом, что прямо смотрел, мазнула в сторону царевны, коротко поклонилась и замерла в ожидании.
Василиса неуверенно встала с сундука и спустилась на нижнюю «ступень» палат. По старой привычке ещё спросонья заробела, но после опомнилась и села за стол прямо напротив середины окна, где просторы вдаль утекали. Дунька положила перед ней ложку, потом отвернулась к огню, голой рукой сняла чайник, подошла и наполнила медный богатый кубок чем-то горячим. По комнате поплыл дивный аромат иван-чая.
– С-спасибо, – сказала царевна, ещё не понимая, что делать.
От каши пахло так, что хотелось скорее взяться за ложку, но вид бледной Косоглазки, что истуканом нависала рядом, откровенно пугал.
– Дуня? – попробовала девушка, но та не шелохнулась. – Дуня, ты сама-то есть будешь?
На это девка ожидаемо отрицательно мотнула головой с тем же безразличным видом. Царевна сглотнула, поглядела на кашу, на кубок и опять на неё.
– А чаю пить хочешь? Если надобно – поделюсь, не убудет.
Но в ответ лишь такое же мотание, на что Василиса, признаться, с облегчением выдохнула:
– Ты тогда, Дуня, иди, ежели позволено, ладно? А я тут буду, никуда не пойду.
Кивать Косоглазка не стала, но, поставив чайник у огня на каменный бортик, двинулась прочь сразу же и аккуратно притворила за собой дверь. Тишина.
– И чего это я вообще? – неловко заправляя прядь за ухо, пробормотала девушка. – Беспокойнице харчи разделить предложила, как подружке какой. Ещё б спать на кровати с собой пригласила, мертвеца-то! – и передёрнула плечами. – Совсем я что-то со сна бестолковая…
И зевнула, наконец-то ощущая, что напряжение отпускает.
Руки на скатерти чуть сжались, царапнув неровными ногтями белый лён. Он приятно отдавался бархатом под подушечками пальцев. Мягкий, тёплый. Как и всё вокруг. Только сейчас, когда отдышалась, гостья смогла ощутить, как здесь уютно. И не душно, как в избе с печкой, а словно денёк летний, пахнущий травами, погостить остался.
За окном разгорался морозный рассвет, серебря инеем широкое поле перед лесом.
– Высо́ко-то как! – ахнула Василиса, вытянув шею и глядя вниз. – Словно с оврага смотришь!
Да только подобной кручи припомнить не могла, а заря уже сияла огненным светом на низких облаках. И простор какой впереди! Докуда глаз хватает – леса бесконечные вдаль уходят. Дремучие, густые, словно накрывшие землю одеялом. И будто ни единой души в этом краю, лишь птицы ранние над ветвями вспархивают, словно проверяют, скоро там солнышко появится или ещё отдыхает?
Каша пахла зазывно, и царевна принялась завтракать, глядя на дивную картину. Сначала ощущала вкус свежего молока и масла, как теплом живот наполняется, а потом как-то тяжелее пошло. Начала сглатывать, часто дышать, вздрагивать и раз даже чуть не подавилась. И только доев последнюю ложку, поняла, что плачет. Так, что аж грудь ходуном ходит, и непослушный голос крякает некрасиво, будто позвать кого хочет, да не знает кого. И свет зарева слепит глаза, наполненные прозрачной влагой, что в тарелку по щекам и подбородку катится.
Дошла. Дошла до Кощея! Добралась, выжила! Лицом к лицу стояла, ко всему готовилась! И вот уж новый день, а она жива, завтракает, зима впереди землю укрывать готовится, а ей теперь пережидать. Целую зиму жить незнакомой новой жизнью!
Почему-то Василисе казалось, что дойти до Кощея – её главная задача. И будто даже чудилось, что после неё и не будет ничего. Не думала она об этом, не до того было.
Нет, так-то представляла, да. Что без проклятья к Иванушке вернётся, улыбнётся, покружится, пока он глядит на неё восхищённо. И руки протянет, чтоб к нему прильнула. Что царь-батюшка покивает и махнёт рукой: «Да и не Лягушка ты, вижу теперь! А лебедь белая!» – и обнимет по-отцовски. Да только всё это как мечты виделось, словно будет, но не с ней, а как-то само по себе, без её участия.
И к гибели тоже готовилась, что уж? Собиралась с силами, чтоб прямо в лицо опасности смотреть, не струсить и до конца за своё счастье бороться.
А теперь – вот. Как-то всё слишком явно, по-настоящему. Дошла, посмотрела, а жизнь-то дальше двинулась, и впереди новый день спешит навстречу. А ей вкусно, тихо, спокойно, тепло, и такая красота за окном утром розовым греется, светом солнечным улыбается! И не знала-то Василиса, что так можно! Что такое вообще бывает! И каша во сто крат вкусней показалась с таким-то дивом!