
Полная версия
Русская Православная Церковь и власть в ХХ веке
Стихийные беспорядки в Петрограде начались 23 февраля (8 марта) 1917 года, а 27 февраля (12 марта) на сторону восставших стали массово переходить части Петроградского гарнизона. Как показывают протоколы Синода, всю первую неделю событий его членами проводились регулярные заседания, причем никаких связанных с революцией вопросов в официальной повестке дня не значилось198. Как отмечал протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский, в обстановке начавшейся Февральской революции, в Священном синоде «царил покой кладбища»199. Синодальные архиереи вели текущую работу, занимаясь большей частью решением различных бракоразводных и пенсионных дел200.
К руководству Синода в те дни поступали обращения со стороны граждан и высокопоставленных чиновников России с просьбами о поддержке трона. О необходимости поддержать монархию говорил и товарищ синодального обер-прокурора князь Н. Д. Жевахов. Сутью отвергнутого иерархами РПЦ предложения Н. Д. Жевахова было заявление о поддержке Церковью царского правительства201. На последнем перед отречением Николая II от престола заседании Синода 27 февраля 1917 года с предложением к Синоду осудить революционное движение обратился обер-прокурор Н. П. Раев. Синод отклонил и это предложение202.
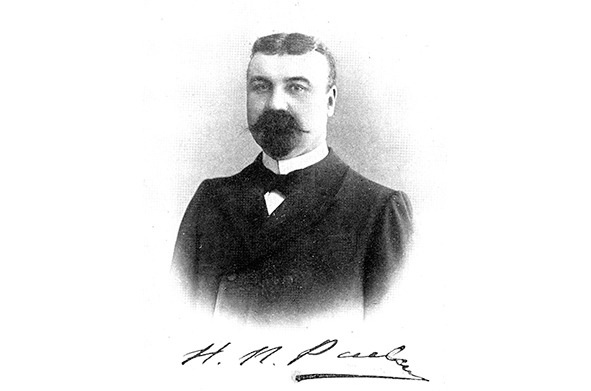
Обер-прокурор Святейшего Синода (1916 – 1917) Николай Павлович Раев203
Как пишет доктор исторических наук А. В. Соколов, «деятельность высшего церковного управления [Синода] с 27 февраля по 4 марта 1917 года фактически замерла. … Официальных заседаний в отсутствие действующего обер-прокурора [Н. П. Раева] члены Синода не проводили. 2 и 3 марта состоялись их „частные совещания“, на которых присутствовали и некоторые представители столичного белого духовенства»204. Кандидат исторических наук Ф. А. Гайда отмечает: «Синод оказался в изоляции. Лишь 2 марта он принял решение связаться с Временным комитетом Государственной думы, …. Отношения с новой властью были установлены только на следующий день: Святейший синод сделал это последним из всех петроградских учреждений»205. Он же отмечал: «официальная позиция Синода в ходе Февральской революции была подчеркнуто аполитичной, а с учетом сложившихся обстоятельств и не могла быть никакой другой»206.
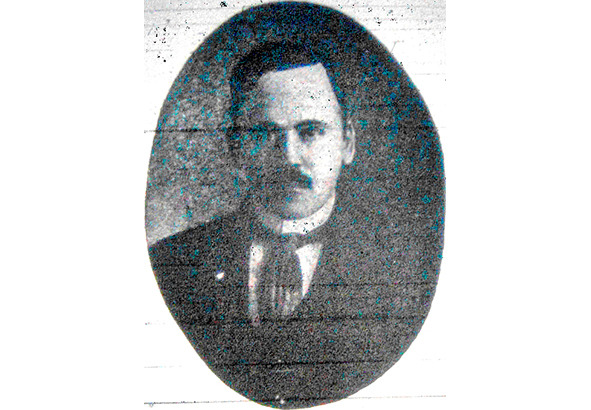
Товарищ (заместитель) обер-прокурора Святейшего Синода (1916—1917) князь Николай Давидович Жевахов207
В целом, в эти дни руководство РПЦ вело себя крайне осторожно: в день отречения императора 2 (15) марта 1917 года члены Синода сошлись во мнении о необходимости установить контакт с Временным правительством208. Как писал впоследствии будущий обер-прокурор Синода (25 июля 1917 – 5 августа 1917) А. В. Карташёв, Синод и епископат проявили в дни Февральской революции «характерную для восточных церквей пассивную лояльность, смирение и здравый смысл»209. По мнению А. В. Соколова, поскольку православные архиереи были «не политическими деятелями, а, по сути, государственными чиновниками», то «их позицию можно также сравнить с образом действий подчиненных в ситуации, когда прежний начальник уже почти уволен, а новый еще официально не назначен»210.
Подводя итоги поведения РПЦ в дни Февральской революции, А. В. Соколов заключает, что «Православная церковь встретила свержение самодержавия не как самостоятельная структура, а как государственное Ведомство православного исповедания, в котором служители алтаря действовали в качестве чиновников, обязанных подчиняться начальству. Поскольку передача власти Временному правительству закреплялась Актами от 2 и 3 марта 1917 года, церковь покорно признала его»211.
Профессор А. А. Радугин отмечает, что «Февральская революция в различных слоях православной церкви была встречена не однозначно. Высшая иерархия, тесно связанная со старым режимом, реагировала на нее довольно сдержанно, отчасти опасалась за свое будущее. Рядовое духовенство в подавляющем большинстве встретило революцию с энтузиазмом, видя в ней возможность освобождения от тягостных гражданского и церковного режимов. В губернских центрах съезды духовенства и мирян принимали резолюции, приветствовавшие свержение царизма и установление новой власти»212. Действительно, у православного духовенства были веские причины на то, чтобы не выступать за свергнутую монархию и поддержать Временное правительство. Как пишет А. В. Соколов, «… часть духовенства связывала со свержением самодержавия надежды на возможность изменения существующего положения в церкви, ее всестороннего обновления»213. В качестве таких веских причин можно назвать обретение независимости от государства, созыв Поместного собора, избрание патриарха, чему, по сути, мешала самодержавная власть. Действительно, Николай II, сам инициировавший проведение Поместного собора и введение патриаршества в Российской империи, сам же на протяжении более 10 лет и тормозил реализацию этого проекта. С победой Февральской революции это препятствие исчезло и открылась перспектива его реализации. Собственно, может, этот фактор тоже сыграл свою роль в поведении Синода в дни революции, ибо зачем поддерживать того, кто препятствует получению Церковью независимости и введению в России патриаршества?
4 (17) марта 1917 года состоялось первое официальное заседание Синода после Февральской революции, на котором новый обер-прокурор В. Н. Львов провозгласил «свободу Церкви». После этого, как сообщали газеты, из зала Синода было вынесено императорское кресло. 5 (18) марта было отменено возглашение многолетия Царствующему Дому, 6 (19) марта Синод принял решение служить молебен о новом правительстве, после чего также была установлена молитва о «благоверном Временном правительстве». 9 (22) марта Синод выступил с воззванием к народу о необходимости всемерной поддержки Временного правительства, приход к власти которого, как и саму революцию, церковные иерархи объясняли «волей Божией»214. Православные идеологи заявляли: «Итак, мы теперь имеем вполне законное Временное правительство, которое является властью продержавшей, так называет ее слово Божье. Этой власти ныне единой, верховной и всероссийской мы обязаны повиноваться по долгу религиозной совести, обязаны за нее молиться, обязаны повиноваться и власти местной, от нее поставленной»215.
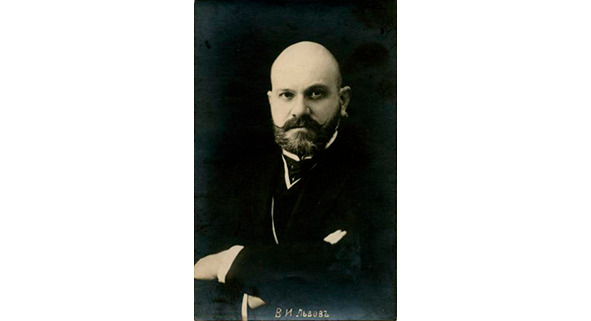
Обер-прокурор Святейшего Синода (3 марта – 24 июля 1917) Владимир Николаевич Львов216
После Февральской революции РПЦ была переподчинена Временному правительству и продолжала существовать в статусе Ведомства православного исповедания, в которое оно назначило своего обер-прокурора. Как отмечает А. В. Соколов, «устранение монарха, который в соответствии с действовавшими законами не только возглавлял церковь, но и был обязан исповедовать православие, уничтожило „личную унию“ государства и церкви»217. Именно в этот момент был завершен Синодальный период в истории Русской Православной Церкви и начался особый период, когда Церковь стала приобретать независимость от светской власти.
Таким образом, до 1917 года Русская Православная Церковь представляла собой государственную структуру во главе с императором Российской империи и являлась частью государственного аппарата. Предпринимавшиеся с 1904 – начала 1905 года шаги царской и церковной власти по реформе Православной церкви к моменту Февральской революции дали ничтожные результаты. Царская власть сама инициировала постановку на повестку дня церковную реформу и сама же на протяжении более 10 лет не давала ей осуществиться, ибо по факту церковная реформа должна была привести к ослаблению контроля государства над РПЦ. Видимо, понимая это, царская власть умышленно тормозила её проведение. Только с победой Февральской революции и отречением царя стало возможным созвать Поместный собор, избрать патриарха и вообще добиться независимости от государства.
Русская православная церковь в 1917 году
К 1917 году Православное Христианство уже более девяти веков занимала положение господствующей религии на Руси. По данным доктора исторических наук О. Ю. Васильевой, «в 1917 году численность православных верующих в России составляла около 117 млн человек, то есть более двух третьих всего населения. Русская Православная Церковь имела 67 епархий, в которых действовало около 80 800 храмов и часовен, 1025 монастырей (с 94 629 монашествующими), 35 000 начальных школ, 185 епархиальных училищ, 57 семинарий, 4 духовные академии и 34 497 библиотек. Численность священнослужителей превышала 66 000 человек, из них 130 человек составляли епископат»218. Надо сказать, что данные о численности православного населения России и количестве священнослужителей в 1917 году весьма сильно разнятся по разным источникам: называются цифры от 80 миллионов219 до 115—117 миллионов верующих и около 120 тысяч священнослужителей и церковнослужителей220. Данные по численности монашества в России в 1917 году также расходятся: более 90 тысяч, 104,5 тысячи, 106 тысяч221. Современное церковное издание сообщает о 107 тысячах (33,5 тысяч монашествующих и 73,4 тысяч послушников) в России; в 15 (5) зарубежных монастырях к 1917 году насчитывалось 638 монашествующих и 71 послушник222.
Православие было de facto государственной религией, РПЦ гос. структурой, а её главой был император. Закон 1906 года называл царя «верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры, и блюстителем правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» и устанавливал, что «в управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного»223.
Доктор исторических наук А. В. Соколов констатирует, что «до 1917 года церковь фактически представляла собой не мистический союз верующих, а „Ведомство православного исповедания“ (или „Ведомство Св. Синода“ …) со своими функциями и своей строкой в бюджете. Православное духовенство – с точки зрения существовавшей тогда государственной системы – являлось частью чиновничьего аппарата»224.
Как фактически гос. структура РПЦ финансировалась из казначейства империи (в бюджете на 1917 год церкви предназначалось 65 262 114 рублей225), и выполняла целый ряд государственных функций. Так, РПЦ занималась регистрацией актов гражданского состояния среди православных подданных, вело метрические книги и предоставляла статистические сведения в государственные учреждения (например, в военное ведомство). РПЦ выполняла ряд государственных функций в сфере народного образования: заведовала 37 тысячами церковно-приходских школ (1917 г.) – половиной всех начальных школ в России; занималась идеологическим воспитанием населения в духе официальной государственной доктрины «Православие. Самодержавие. Народность». Существовало также придворное и военное духовенство, выполнявшее свои отдельные государственные задачи226.
Несмотря на такое особое положение в государственной системе империи, в политическом отношении к 1917 году положение РПЦ не было прекрасным. В начале XX века резко упал её престиж, происходило расцерковление русского общества и разочарование в Церкви, на что особенно повлияла Первая мировая война227. Как пишет кандидат исторических наук Ф. А. Гайда: «Накануне русской революции 1917 года политическое положение Церкви было нелегким. Либеральная оппозиция воспринимала ее придатком государственного аппарата, архиереев – „синодальной бюрократией“ и „распутинцами“228, требовала перестройки всего церковного здания на началах демократии. Часто случавшееся в дореволюционное время активное вовлечение Церкви в политику, например в думских избирательных кампаниях, лишь усугубляло положение, давало дополнительные поводы для критики»229.
Стихийные беспорядки в Петрограде начались 23 февраля (8 марта) 1917 года, а 27 февраля (12 марта), на сторону восставших стали массово переходить части Петроградского гарнизона. Как показывают протоколы Синода, всю первую неделю событий его членами проводились регулярные заседания, причем никаких связанных с революцией вопросов в официальной повестке дня не значилось230. Тоже самое было и на последнем перед отречением Николая II заседании Синода 27 февраля. Согласно газетным публикациям тех дней, руководство Синода якобы предложило архиереям выпустить специальное воззвание против революционного движения, которое, по его мнению, состояло из одних изменников. Синод якобы это предложение отклонил231. На самом деле царского обер-прокурора Н. П. Раева тогда не было в Петрограде, а с предложением к архиереям обратиться к населению с неким воззванием выступил его заместитель князь Н. Д. Жевахов. Сутью отвергнутого церковными иерархами предложения Н. Д. Жевахова было заявление о поддержке Церковью царского правительства232.
В ходе революционных событий февраля-марта 1917 года Церковь и её представители мало пострадали, а революционные эксцессы носили единичный характер. Так, 28 февраля (13 марта) революционные солдаты доставили из Александро-Невской Лавры в Таврический дворец, где располагалась Государственная Дума, как «усердного слугу старого режима» митрополита Петроградского Питирима. Когда его везли в автомобиле по Петрограду, толпа кричала: «ты помогал врагам народа!»233. Но члены сформированного к тому времени высшего чрезвычайного органа государственной власти – Временного комитета Государственной Думы отказались заниматься одиозным ставленником Г. Е. Распутина и митрополит тотчас был отпущен новым обер-прокурором Синода В. Н. Львовым. 1 или 2 (14—15) марта был арестован и доставлен в Таврический дворец и заместитель бежавшего обер-прокурора Синода Н. П. Раева Н. Д. Жевахов. Отпущен он был только 5 (18) марта с увольнением со службы234.
В революционные дни были арестованы и некоторые другие священнослужители. Так, 9 (22) марта по инициативе Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов был арестован и доставлен в Таврический дворец член Синода протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский235. Поводом к задержанию послужила обнаруженная среди бумаг Главного штаба его записка о необходимости принятия экстренных мер для духовного воспитания и укрепления армии. После короткого расследования на следующий день его освободили. 2 (15) марта солдаты доставили в Думу по подозрению в стрельбе с колокольни своего протоиерея Добровольского. В ходе короткого расследования выяснилось, что речь шла о недоразумении и того отпустили. 5 (18) марта с обвинением в промонархических симпатиях в Думу привели протоиереев А. С. Кононова и В. Г. Гуляева. Им вменялось в вину, что в своих проповедях они «не проявили достаточной преданности новому государственному порядку», а В. Г. Гуляев осуждал происходящие в городе «дела постыдные – убийства, грабежи, сжигание архивов, сжигание целых домов, разгром магазинов» и то, что «забыта… присяга на верноподданство государю императору». В результате возмущенные прихожане вызвали милицию, которая арестовала батюшек. В Таврическом дворце обер-прокурор В. Н. Львов сделал батюшкам соответствующее внушение и отпустил236.
Во время революционных событий в Петрограде имели место отдельные эксцессы против храмов. Так, 27 февраля (12 марта) 1917 года толпа восставших разгромила Дом предварительного заключения на Шпалерной улице, разграбила и сожгла храм при нём237.
Александро-Невская Лавра во время революционных событий несколько раз подвергалась нападениям. В тот же день, когда арестовали митрополита Питирима, 28 февраля (13 марта) 1917 года в келью казначея Лавры явились вооруженные солдаты, возглавляемые прапорщиком В. Ф. Саутой и именем Государственной Думы изъяли хранившуюся в кассе месячную сумму в размере 26 тысяч рублей238. Через некоторое время он передал казначею Временного Комитета Государственной Думы 22 тысячи рублей, судьба ещё 4 тысяч рублей так и осталась невыясненной239. В целом, похищенные у Лавры деньги, несмотря на неоднократные требования священников, возвращены ей не были. Более того, по требованию обер-прокурора В. Н. Львова Лавра передала ему ещё 5 тысяч рублей золотой монетой240. 6 (19) марта 1917 года на Александро-Невскую Лавру напала некая банда, пытавшаяся ограбить монастырь. В результате действия городских властей Петрограда банда была отчасти арестована, отчасти разогнана241.
Во время революции в Петрограде пострадал целый ряд церквей из-за случайных обстрелов, были отмечены разбитые стекла в окнах от пуль. Из-за распространившихся по городу слухов о стрельбе из пулемётов царской полицией с крыш церквей и с колоколен по восставшим в целом ряде петроградских церквей в марте-апреле 1917 года были проведены обыски, которые ничего не дали. Некоторые «обыски» представляли собой настоящую вакханалию, когда толпы вооруженных солдат врывались в храмы, стреляли, арестовывали церковных служителей, грабили церкви242. Хотя «духовные власти пытались проинформировать население о непричастности церквей к уличным обстрелам, но общественное мнение однозначно считало духовенство виновным»243. Из-за таких событий и настроений в марте 1917 года целый ряд церквей Петрограда был вынуждении временно приостановить свою работу.
В ходе Февральской революции не обошлось и без жертв среди священнослужителей. Так, 4 марта 1917 года на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре похоронили убитого во время народных волнений иподиакона244 Исаакиевского собора С. В. Васильева245.
Что касается поведения самого Синода во время революционных событий, то, как пишет А. В. Соколов, «деятельность высшего церковного управления с 27 февраля по 4 марта 1917 года фактически замерла. … Официальных заседаний в отсутствие действующего обер-прокурора члены Синода не проводили. 2 и 3 марта состоялись их „частные совещания“, на которых присутствовали и некоторые представители столичного белого духовенства»246. Ф. А. Гайда же отмечает: «Синод оказался в изоляции. Лишь 2 марта он принял решение связаться с Временным комитетом Государственной думы, уже после того, как отношения с ним были установлены Ставкой и иностранными державами. Отношения с новой властью были установлены только на следующий день: Святейший синод сделал это последним из всех петроградских учреждений»247.
В целом, в эти дни руководство РПЦ вело себя крайне осторожно: в день отречения императора 2 (15) марта 1917 года члены Синода сошлись во мнении о необходимости установить контакт с Временным правительством, а на следующий день, 3 (16) марта, отправили в Таврический дворец даже не епископа, а всего лишь священника одной из кладбищенских церквей, которому удалось пробраться в Государственную Думу и доложить о резолюциях центрального управления духовного ведомства248. Как писал будущий обер-прокурор Синода (25 июля 1917 – 5 августа 1917) А. В. Карташёв, Синод и епископат проявили в дни Февральской революции «характерную для восточных церквей пассивную лояльность, смирение и здравый смысл»249. Однако, по мнению А. В. Соколова, поскольку православные архиереи были «не политическими деятелями, а, по сути, государственными чиновниками», то «их позицию можно также сравнить с образом действий подчиненных в ситуации, когда прежний начальник уже почти уволен, а новый еще официально не назначен»250.
Рядовые священники в дни Февральской революции также в массе своей повели себя осторожно, не заступались за свергнутого главу своей Церкви – царя и призывали к послушанию новым властям. Так, например, пермский епископ Андроник (Никольский) в своём всероссийском обращении 4 марта призывал «оказывать всякое послушание Временному правительству», а позднее говорил, что «волею Божией совершился в нашей стране государственный переворот». Ф. А. Гайда пишет: «События действительно были переворотом, или, по-латыни, революцией. Однако и отречение Николая II, и отказ от власти великого князя Михаила были, по крайней мере формально, добровольными, а это означало, что Церковь должна была поддержать новый порядок – пусть и революционный – во имя сохранения государственного единства. Другого пути не было»251.
Подводя итоги поведения РПЦ в дни Февральской революции, А. В. Соколов заключает, что «Православная церковь встретила свержение самодержавия не как самостоятельная структура, а как государственное Ведомство православного исповедания, в котором служители алтаря действовали в качестве чиновников, обязанных подчиняться начальству. Поскольку передача власти Временному правительству закреплялась Актами от 2 и 3 марта 1917 года, церковь покорно признала его»252.
Профессор А. А. Радугин отмечает, что «Февральская революция в различных слоях православной церкви была встречена не однозначно. Высшая иерархия, тесно связанная со старым режимом, реагировала на нее довольно сдержанно, отчасти опасалась за свое будущее. Рядовое духовенство в подавляющем большинстве встретило революцию с энтузиазмом, видя в ней возможность освобождения от тягостных гражданского и церковного режимов. В губернских центрах съезды духовенства и мирян принимали резолюции, приветствовавшие свержение царизма и установление новой власти»253.
Действительно, у православного духовенства были веские причины на то, чтобы не выступать за свергнутую монархию и поддерживать Временное правительство. Как пишет А. В. Соколов: «…охваченные революционными настроениями прихожане начали пристально следить за речами священников, и даже простое упоминание в положительном ключе бывшей царствующей династии вызывало обвинение в „черносотенстве“ и „контрреволюционности“. Образующиеся по всей России общественные комитеты и советы первым делом начинали „изучать“ действия местных епархиальных преосвященных в плане их лояльности новому строю»254.
Продолжая описывать сложившуюся ситуацию, А. В. Соколов указывает на то, что «… в дни Февраля стало очевидно, что у населения сильны представления о духовенстве как об „агентах старого режима“. Любое не негативное высказывание священников о павшей династии воспринималось как контрреволюционное выступление. Февральские события в Петрограде были отмечены разрушением храмов, продемонстрировавшим крайне пренебрежительное отношение ко вчерашним святыням со стороны революционных солдат и рабочих. Вместе с тем, часть духовенства связывала со свержением самодержавия надежды на возможность изменения существующего положения в церкви, ее всестороннего обновления»255.
4 (17) марта состоялось первое официальное заседание Синода после Февральской революции, на котором новый обер-прокурор В. Н. Львов провозгласил «свободу Церкви». После этого, как сообщали газеты, из зала Синода было вынесено императорское кресло. 5 (18) марта было отменено возглашение многолетия Царствующему Дому, 6 (19) марта Синод принял решение служить молебен о новом правительстве, после чего также была установлена молитва о «благоверном Временном правительстве». 9 (22) марта Синод выступил с воззванием к народу о необходимости всемерной поддержки Временного правительства, приход к власти которого, как и саму революцию, церковные иерархи объясняли «волей Божией»256. Православные идеологи пытались обосновать законный характер новой власти, стремясь тем самым заслужить её благосклонность. Так, издававшийся в Москве церковный журнал «Православный благовестник» писал тогда: «Отрекшись от престола бывший наш государь передал законным порядком власть своему брату, в свою очередь отрекшемуся от власти до окончательного решения Учредительного собрания257. Брат государя законным же порядком передал власть Временному правительству и тому правительству постоянному, которое будет дано России Учредительным собранием. Итак, мы теперь имеем вполне законное Временное правительство, которое является властью продержавшей, так называет ее слово Божье. Этой власти ныне единой, верховной и всероссийской мы обязаны повиноваться по долгу религиозной совести, обязаны за нее молиться, обязаны повиноваться и власти местной, от нее поставленной»258.
Тем не менее, подобных тем почестям, какие Церковь оказывала императору и всему Царствующему Дому, Временному правительству она уже не оказывала, хотя и осталась в том же самом положении, в каком была до революции. После Февральской революции РПЦ была переподчинена Временному правительству и продолжала существовать в статусе Ведомства православного исповедания, в которое оно назначило своего обер-прокурора. Как отмечает А. В. Соколов, «устранение монарха, который в соответствии с действовавшими законами не только возглавлял церковь, но и был обязан исповедовать православие, уничтожило „личную унию“ государства и церкви. По отношению к Временному правительству не проводилось таинства миропомазания, и от его министров не требовалась принадлежность к православию»259. Чтобы избежать эксцессов и возможных обвинений со стороны революционных организаций в приверженности самодержавию, 22 марта (4 апреля) 1917 года Синод рекомендовал церковным начальникам и священникам изъять всю монархическую литературу из приходских храмов и монастырей260.



