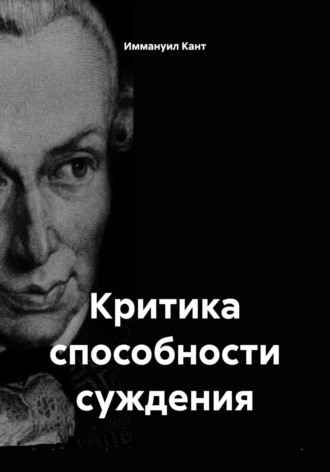
Полная версия
Критика способности суждения
– Субъективность (оно не основано на объективных свойствах вещи);
– Непосредственность (оно не требует рефлексии);
– Свободу от интереса (оно не связано с желанием обладать предметом).
Михайлов обращает внимание на то, что Хайдеггер усматривает в этом моменте сходство с феноменологическим методом Гуссерля: "Кантовское 'нравится без понятия' оказывается близким к гуссерлевскому 'усмотрению сущности', где вещь дана в своей непосредственности" (там же, с. 52). Однако, в отличие от Канта, Хайдеггер связывает эстетический опыт не с субъективным чувством, а с истиной бытия, которая раскрывается в моменте созерцания.
3. Историко-философский контекст: от Канта к Хайдеггеру.
Михайлов подчеркивает, что кантовская эстетика стала поворотным пунктом в истории философии, поскольку впервые поставила вопрос о самостоятельности эстетического опыта (в отличие от баумгартеновской трактовки эстетики как "низшей гносеологии"). Однако Хайдеггер, развивая свою фундаментальную онтологию, идет дальше: для него суждение вкуса – это не просто субъективная оценка, а способ, каким бытие заявляет о себе в человеческом опыте.
Таким образом, анализ Михайлова показывает, что кантовская "Аналитика прекрасного" и особенно "первое мгновение" суждения вкуса становятся для Хайдеггера важной точкой пересечения критической философии и феноменологии. Если Кант видит в эстетическом суждении проявление гармонии между воображением и рассудком (§9, 5:217), то Хайдеггер интерпретирует его как момент откровения бытия, свободного от субъект-объектной дихотомии.
Работа Михайлова демонстрирует, что кантовская критика способности суждения, особенно в части "Аналитики прекрасного", оказала значительное влияние на формирование хайдеггеровской онтологии. "Первое мгновение" суждения вкуса, с его акцентом на незаинтересованности и непосредственности, становится для Хайдеггера ключом к пониманию эстетического опыта как способа явленности истины. Этот анализ позволяет увидеть, как кантовская эстетика, оставаясь в рамках трансцендентальной философии, открывает путь к более радикальной онтологической интерпретации искусства и прекрасного.
6. Дмитриева Н. А.
– "Русская рецепция кантовской эстетики" (2007)
– Описание: Анализирует, как российские философы (Соловьев, Лосский) интерпретировали кантовское понимание прекрасного.
Кантовская Критика способности суждения (1790) занимает ключевое место в его критической философии, связывая теоретический и практический разум через анализ эстетического и телеологического суждения. В Аналитике прекрасного (Первая книга «Критики способности суждения») Кант раскрывает природу суждения вкуса, определяя его как рефлектирующее, а не определяющее суждение, поскольку оно не подводит объект под понятие, а выражает субъективное чувство удовольствия или неудовольствия. Центральным здесь становится понятие «незаинтересованного удовольствия», которое отличает эстетическое суждение от морального или чувственного: «Удовольствие, которое мы соединяем с представлением о существовании предмета, называется интересом. Поэтому суждение вкуса есть суждение, незаинтересованное» (Кант, Критика способности суждения, §2, с. 43). Это удовольствие возникает не из-за полезности или моральной ценности объекта, а из-за его формы, которая вызывает гармонию между воображением и рассудком.
В Первой моменте суждения вкуса, посвященном качеству, Кант подчеркивает, что прекрасное нравится без всякого интереса, что отличает его от приятного (которое связано с чувственным удовлетворением) и доброго (которое оценивается через понятие цели). «Прекрасно то, что нравится без понятия» (§9, с. 57) – этот тезис указывает на субъективную всеобщность эстетического суждения: хотя оно основано на индивидуальном переживании, оно претендует на общезначимость, поскольку предполагает, что другие также должны испытывать подобное удовольствие при созерцании того же объекта.
Дмитриева Н. А. в работе «Русская рецепция кантовской эстетики» (2007) исследует, как российские философы конца XIX – начала XX века интерпретировали кантовскую эстетику, особенно его учение о прекрасном. Владимир Соловьев, например, критиковал Кантовский формализм, утверждая, что красота не может быть сведена к чистой форме, а должна включать в себя онтологическое и духовное измерение. В отличие от Канта, Соловьев видел в прекрасном проявление абсолютного начала, связывая эстетическое с религиозно-метафизическим опытом. Николай Лосский, в свою очередь, акцентировал внимание на интуитивистском аспекте кантовской эстетики, подчеркивая, что суждение вкуса опирается на непосредственное созерцание гармонии, но при этом стремился преодолеть дуализм между субъективным и объективным в эстетическом опыте.
Кантовская идея «целесообразности без цели» (Zweckmäßigkeit ohne Zweck, §10, с. 61) также стала предметом дискуссий в русской философии. Если для Канта эта целесообразность – лишь субъективное ощущение соответствия формы объекта познавательным способностям, то для русских мыслителей (особенно символистов) она приобретала онтологический смысл, связываясь с идеей мировой гармонии.
Аналитика прекрасного Канта, особенно первый момент суждения вкуса, заложила основы современной эстетики, поставив вопрос о субъективности и всеобщности эстетического опыта. Русская рецепция, рассмотренная Дмитриевой, демонстрирует как критическое переосмысление кантовского формализма, так и попытки его интеграции в более широкий метафизический контекст, что отражает специфику отечественной философской традиции.
Анализ вкуса в «Кантовском сборнике» – философском журнале.
Сравнение с другими журналами.
В «Кантовском сборнике» – ведущем российском журнале по изучению кантовской философии – неоднократно подчеркивалась новаторская роль кантовского анализа вкуса. Так, в статье А.Н. Круглова отмечается, что «бескорыстность у Канта – это не просто отсутствие интереса, а условие возможности эстетического опыта как такового» (Круглов А.Н. Проблема бескорыстности в кантовской эстетике // Кантовский сборник. 2010. № 2. С. 45). Другой исследователь, В.А. Чалый, акцентирует внимание на том, что кантовская трактовка вкуса «предвосхищает феноменологический подход, выделяя чистую субъективность как основу эстетического» (Чалый В.А. Категории эстетики Канта и современность // Кантовский сборник. 2015. № 3. С. 72). Эти идеи получают развитие в работах других авторов: например, Е.В. Борисов указывает, что «Хайдеггер упрекает Канта в "субъективизации" эстетического, но это упрощение: кантовская субъективность – это не психологизм, а трансцендентальное условие» (Борисов Е.В. Кант и Хайдеггер: спор об эстетике // Кантовский сборник. 2018. № 1. С. 34). Особенностью «Кантовского сборника» является его ориентация на русскоязычную рецепцию Канта, что проявляется в частых отсылках к работам Лосского или Батищева, как, например, в статье С.А. Иванова: «Русская традиция (например, Лосский) видит в кантовской эстетике этический подтекст, что редко встречается в западных исследованиях» (Иванов С.А. Кант в русской философии // Кантовский сборник. 2012. № 4. С. 89).
В отличие от «Кантовского сборника», западные журналы, такие как «Kant-Studien», делают акцент на аналитической традиции и сопоставлении с англо-американской философией. Например, Пол Гайер в своей работе, опубликованной в «Kant-Studien», интерпретирует кантовскую бескорыстность скорее как «элитарность» вкуса (Guyer P. Kant and the Claims of Taste. Cambridge, 1997. P. 112), тогда как российские исследователи видят в ней условие общезначимости. Аналогично, если «Кантовский сборник» тяготеет к историко-философскому анализу с привлечением Платона и Гегеля, то «Kant-Studien» чаще фокусируется на логике суждений и лингвистическом анализе. Еще одним контрастным примером может служить британский журнал «British Journal of Aesthetics», где кантовская эстетика рассматривается через призму contemporary-дискуссий, например, в связи с проблемой искусства и морали, как у Элизабет Шефер Ландау (Schefer Landau E. Kantian Aesthetics and the Ethics of Modern Art // British Journal of Aesthetics. 2019. Vol. 59. № 2. P. 145–160). Таким образом, «Кантовский сборник» выделяется на фоне других журналов своей специфической направленностью на трансцендентальные и этические аспекты кантовской эстетики, а также вниманием к русской философской традиции, тогда как западные издания чаще ориентированы на аналитическую философию и современные интерпретации.
Зарубежные кантоведы.
Классические интерпретации7. Paul Guyer
– "Kant and the Claims of Taste" (1997, 2nd ed.)
– Описание: Фундаментальный анализ "Критики способности суждения". Гуйер детально разбирает "суждение вкуса по качеству", подчеркивая его априорный характер.
В своем фундаментальном труде Kant and the Claims of Taste (1997, 2-е изд.) Пол Гайер предлагает углубленный анализ кантовской эстетики, уделяя особое внимание первому моменту – суждению вкуса по качеству, – подчеркивая его априорные основания и связь с автономией эстетического опыта.
Согласно Канту, суждение вкуса по качеству определяется как «удовольствие, свободное от всякого интереса» (Критика способности суждения, §5, 211). Это означает, что эстетическая оценка не зависит от практической или познавательной заинтересованности: прекрасное нравится «без понятия», то есть без подведения объекта под определенные категории рассудка. Гайер акцентирует, что именно эта бескорыстность (Disinterestedness) составляет основу априорности суждения вкуса, поскольку оно исключает эмпирические влияния, такие как личные предпочтения или утилитарные соображения (Guyer, Kant and the Claims of Taste, p. 115). Таким образом, удовольствие от прекрасного не связано с существованием объекта, а проистекает исключительно из рефлектирующей способности суждения, которая гармонизирует воображение и рассудок.
Гайер подчеркивает, что Кант не просто описывает психологический феномен, но выявляет нормативное требование к суждению вкуса: оно должно претендовать на общезначимость (Allgemeingültigkeit), несмотря на субъективность переживания. Это требование вытекает из априорного принципа «общего чувства» (sensus communis), который, по Канту, предполагает, что все субъекты в принципе способны разделять эстетическое суждение при условии свободы от частных интересов (КСС, §20, 238). Гайер интерпретирует это как попытку Канта обосновать объективность в сфере субъективного, не апеллируя к понятийным критериям: «Суждение вкуса требует согласия других не потому, что оно основано на доказательстве, а потому, что оно выражает универсально значимую форму субъективного опыта» (Guyer, p. 148).
Однако Гайер критически оценивает кантовский тезис о незаинтересованности, указывая на его парадоксальность: если удовольствие от прекрасного полностью свободно от интереса, как объяснить, что искусство часто вызывает глубокий эмоциональный отклик? Он предлагает более гибкую интерпретацию, согласно которой бескорыстность следует понимать не как отсутствие всякой вовлеченности, а как особый вид внимания к форме объекта, исключающий утилитарные мотивы (Guyer, p. 127). Этот подход позволяет сохранить априорный характер суждения вкуса, не отрицая его связи с человеческой чувственностью.
Кроме того, Гайер детально анализирует кантовское различение между прекрасным и приятным. Если приятное (например, вкус пищи) связано с чувственным удовольствием, обусловленным индивидуальной склонностью, то прекрасное предполагает созерцательную рефлексию, в которой воображение свободно играет с формой объекта (КСС, §3, 207). Именно эта игра, по Канту, порождает «чувство жизненного подъема» (Lebensgefühl), что Гайер трактует как ключевой момент для понимания автономии эстетического: «Удовольствие от прекрасного возникает не из удовлетворения желания, а из осознания гармонии наших познавательных способностей» (Guyer, p. 134).
Анализ Гайера показывает, что первый момент «Аналитики прекрасного» не просто классифицирует суждение вкуса, но раскрывает его трансцендентальные условия. Бескорыстность, общезначимость и гармония способностей – эти элементы образуют априорный каркас кантовской эстетики, который, несмотря на критику, остается фундаментальным для понимания автономии прекрасного. Как отмечает Гайер, «Кант не просто описывает вкус, но демонстрирует, как субъективное переживание может претендовать на универсальность» (Guyer, p. 162), что делает его теорию уникальным синтезом субъективности и нормативности.
8. Hannah Ginsborg
– "The Role of Taste in Kant’s Theory of Cognition" (1990)
– Описание: Исследует связь эстетических суждений с когнитивными способностями, акцентируя "общую значимость" прекрасного.
Первое определение вкуса, данное Кантом, касается его качественного аспекта: «Вкус есть способность судить о прекрасном» (КЧС, §1, 203). Однако более точное определение, которое Кант формулирует в первом моменте «Аналитики прекрасного», гласит: «Прекрасно то, что нравится без всякого интереса» (КЧС, §5, 211). Это утверждение становится отправной точкой для понимания автономности эстетического суждения, его отличия от суждений приятного и хорошего.
Ханна Гинзборг в своей статье «The Role of Taste in Kant’s Theory of Cognition» (1990) углубляет анализ кантовского подхода, подчеркивая, что суждение вкуса, несмотря на свою субъективность, претендует на общезначимость (Allgemeingültigkeit). Это означает, что, хотя эстетическое суждение основано на чувстве удовольствия, оно не сводится к простой личной склонности, а предполагает, что другие также должны согласиться с ним. Гинзборг обращает внимание на то, что Кант связывает эстетическое суждение с когнитивными способностями – воображением и рассудком, – которые, хотя и не подводятся под определенные понятия, находятся в состоянии «свободной игры» (КЧС, §9, 217). Именно эта гармония когнитивных способностей, не направленная на познание, но схожая с ним по структуре, лежит в основе претензии вкуса на всеобщность.
Кант подчеркивает, что удовольствие от прекрасного не связано с интересом, то есть не зависит ни от чувственного влечения (как приятное), ни от морального долженствования (как хорошее). Это позволяет отличить чистое суждение вкуса от других форм оценки. Гинзборг развивает эту мысль, указывая, что именно отсутствие интереса делает возможным бескорыстное созерцание, которое, в свою очередь, позволяет субъекту воспринимать форму объекта как бы в «свободной игре» способностей. Таким образом, эстетическое суждение оказывается не просто реакцией на объект, а рефлексивным актом, в котором субъект осознает гармонию своих собственных познавательных сил.
Важным аспектом кантовской теории, на который обращает внимание Гинзборг, является субъективная универсальность суждения вкуса. В отличие от логической всеобщности, которая опирается на понятия, эстетическая общезначимость основывается на предположении, что у всех людей когнитивные способности функционируют сходным образом. Кант пишет: «Когда человек называет нечто прекрасным, он приписывает другим то же самое удовольствие» (КЧС, §6, 211). Гинзборг интерпретирует это как указание на то, что эстетическое суждение, хотя и не доказуемо, предполагает нормативность – ожидание согласия других, основанное на общности человеческой познавательной структуры.
Однако Гинзборг идет дальше, утверждая, что эстетическое суждение не просто отражает гармонию способностей, но и активно ее конституирует. То есть, утверждая, что нечто прекрасно, субъект не просто констатирует факт удовольствия, но и устанавливает норму для собственного восприятия. Это означает, что суждение вкуса имеет самореферентный характер: оно не просто реагирует на объект, но и определяет, как этот объект должен восприниматься. Таким образом, Гинзборг предлагает более радикальное прочтение Канта, в котором эстетическое суждение оказывается не просто пассивным отражением гармонии, но актом самоутверждения познавательных способностей.
В заключение можно сказать, что кантовская «Аналитика прекрасного» и первый момент суждения вкуса раскрывают сложную диалектику между субъективностью и претензией на всеобщность. Интерпретация Гинзборг углубляет этот анализ, показывая, что эстетическое суждение не просто дополняет кантовскую теорию познания, но и демонстрирует фундаментальную связь между чувственностью, рефлексией и нормативностью. Через призму ее подхода суждение вкуса предстает не как второстепенный элемент критической философии, а как ключевой момент, раскрывающий динамику человеческого мышления в его единстве познавательных и эстетических аспектов.
9. Donald W. Crawford
– "Kant’s Aesthetic Theory" (1974)
– Описание: Систематический разбор структуры кантовской эстетики, включая "первое мгновение" суждения вкуса.
В работе Дональда У. Кроуфорда "Kant’s Aesthetic Theory" (1974) представлен систематический анализ кантовской эстетики, уделяющий особое внимание "Аналитике прекрасного" и первому моменту суждения вкуса – "качеству". Кроуфорд подчеркивает, что Кант в "Критике способности суждения" (1790) стремится выявить априорные основания эстетических суждений, которые, в отличие от когнитивных или моральных, основываются на чувстве удовольствия или неудовольствия. Первое мгновение суждения вкуса, связанное с качеством, формулируется как "удовольствие, свободное от всякого интереса" (Кант, Критика способности суждения, §1, 5:204). Кроуфорд акцентирует, что это ключевой момент для понимания автономии эстетического: прекрасное нравится "без всякой цели", что отличает его от приятного (которое связано с чувственным влечением) и хорошего (которое подчинено моральным или утилитарным целям).
Кроуфорд детально разбирает кантовское определение "незаинтересованности" (Interesselosigkeit), отмечая, что оно не означает отсутствия внимания или равнодушия, а скорее "чистую форму субъективной реакции, не зависящую от практических или познавательных мотивов" (Crawford, Kant’s Aesthetic Theory, p. 34). Это удовольствие возникает из "свободной игры" познавательных способностей – воображения и рассудка, – которые, не будучи подчинены категориям или понятиям, гармонично взаимодействуют в восприятии прекрасного. Кант пишет: "Прекрасно то, что нравится без понятия" (§9, 5:219), и Кроуфорд интерпретирует это как указание на "неконцептуальный характер эстетического суждения", который, однако, претендует на всеобщность.
Кроуфорд также анализирует связь между "чистым" суждением вкуса и его субъективной универсальностью. Поскольку удовольствие от прекрасного не обусловлено частными склонностями, оно предполагает, что другие также должны согласиться с этим суждением (§6, 5:211). Однако, как подчеркивает Кроуфорд, это "нормативное ожидание", а не логическая необходимость: "Кант не утверждает, что все фактически согласятся с суждением вкуса, но что они должны это сделать, если находятся в идеальных условиях восприятия" (Crawford, p. 47). Это приводит к важному парадоксу: суждение вкуса "не основывается на понятиях, но требует всеобщего согласия".
Особое внимание Кроуфорд уделяет кантовскому различению "свободной" и "зависимой" красоты. Первая (например, цветы или орнаменты) не требует понятия о том, "чем должен быть объект", тогда как вторая (например, красота человека или здания) подчинена цели (§16, 5:229–230). Этот анализ позволяет Кроуфорду показать, как Кант балансирует между "чистотой" эстетического переживания и его связью с культурным и моральным контекстом.
В заключение Кроуфорд подчеркивает, что первый момент суждения вкуса – "качество" – задает основу для последующих моментов (количества, отношения и модальности), формируя "трансцендентальную структуру эстетического опыта". Его интерпретация демонстрирует, как Кант преодолевает субъективизм в эстетике, не впадая в объективизм: прекрасное "не свойство объекта, но способ, каким субъект переживает гармонию своих способностей" (Crawford, p. 62). Этот вывод согласуется с общей кантовской критикой метафизики, переносящей фокус с объекта на условия его восприятия.
10. Henry E. Allison – "Kant’s Theory of Taste" (2001)
– Описание: Интерпретирует суждение вкуса как проявление гармонии между воображением и рассудком.
Современные исследования.
11. Rachel Zuckert
– "Kant on Beauty and Biology" (2007)
– Описание: Рассматривает связь между "Аналитикой прекрасного" и телеологией, подчеркивая роль рефлексии.
Первая книга, "Аналитика прекрасного", исследует структуру эстетического суждения, а первое его определение – "мгновение качества" – раскрывает ключевые характеристики прекрасного. Генри Эллисон в работе "Kant’s Theory of Taste" (2001) предлагает детальную интерпретацию кантовской концепции, подчеркивая роль гармонии между воображением и рассудком в формировании суждения вкуса. Этот анализ требует внимательного рассмотрения как текста Канта, так и критических замечаний Эллисона.
Суждение вкуса по качеству: незаинтересованное удовольствие.
Первое определение прекрасного гласит: "Вкус есть способность судить о прекрасном. Удовольствие, которое определяет суждение вкуса, свободно от всякого интереса" (КЧС, §5, с. 49). Кант противопоставляет эстетическое удовольствие чувственному (связанному с приятным) и моральному (основанному на благе). Чувственное удовольствие, например, от вкуса вина, зависит от личных предпочтений, а моральное – от понятия цели. Прекрасное же вызывает удовольствие, "свободное от всякого интереса", что делает суждение вкуса незаинтересованным.
Эллисон акцентирует, что незаинтересованность не означает отсутствие вовлеченности субъекта, а подчеркивает особый тип рефлексии, при котором субъект не стремится подчинить объект практическим или познавательным целям (Allison, 2001, p. 67). Это позволяет отличить эстетическое суждение от простого предпочтения. Однако критики (например, Шопенгауэр) возражали, что полная незаинтересованность невозможна, так как даже созерцание искусства предполагает некоторую вовлеченность.
Гармония познавательных способностей и субъективная универсальность.
Кант утверждает, что суждение вкуса основано на "свободной игре" воображения и рассудка, которая, хотя и не приводит к понятию, создает ощущение гармонии: "Прекрасное – это то, что нравится без понятия" (КЧС, §9, с. 58). Эллисон интерпретирует это как "когнитивную гармонию" – состояние, в котором воображение свободно сочетает образы, а рассудок бессознательно ищет в них порядок (Allison, 2001, p. 112).
Эта гармония объясняет, почему суждение вкуса претендует на субъективную универсальность: "Когда мы называем нечто прекрасным, мы требуем от других того же удовольствия" (КЧС, §6, с. 52). Однако, в отличие от логических суждений, эта универсальность не опирается на понятия, а апеллирует к общему чувству (sensus communis). Эллисон подчеркивает, что Кант не утверждает фактического согласия всех людей, а лишь нормативное требование к нему (Allison, 2001, p. 94).
Критика Эллисона и альтернативные интерпретации.
Эллисон оспаривает редукционистские трактовки, сводящие суждение вкуса к психологическому феномену. Он настаивает, что гармония способностей – это трансцендентальное условие эстетического опыта, а не просто субъективное переживание (Allison, 2001, p. 130). Однако его подход критикуют за "интеллектуализацию" кантовской эстетики. Например, Пол Гайер (Paul Guyer) утверждает, что Кант делает акцент на чувственном характере удовольствия, а не на скрытой когнитивной структуре (Guyer, "Kant and the Claims of Taste", 1997).
"Аналитика прекрасного" Канта раскрывает суждение вкуса как сложный синтез незаинтересованности, гармонии способностей и претензии на универсальность. Интерпретация Эллисона углубляет понимание этого процесса, подчеркивая его трансцендентальные основания. Однако дискуссии о роли когнитивных структур versus чувственности показывают, что кантовская эстетика остается полем для философских дебатов.
Литература:
– Кант, И. Критика способности суждения (1790).
– Allison, H. Kant’s Theory of Taste (2001).
– Guyer, P. Kant and the Claims of Taste (1997).
12. Béatrice Longuenesse
– "Kant’s Capacity to Judge" (1998)
– Описание: Анализирует связь между эстетическими и когнитивными суждениями, особенно в аспекте "бескорыстности".
Углубленный анализ "Аналитики прекрасного" и "Суждения вкуса по качеству" в "Критике способности суждения" с учетом критики Беатрис Лонгеннес
Первая книга – "Аналитика прекрасного" – посвящена выявлению априорных условий возможности эстетических суждений, а первое "мгновение" (момент) суждения вкуса, рассматриваемый по качеству, вводит ключевой критерий "бескорыстности" (Interesselosigkeit). Этот анализ вызывает дискуссии, в частности, у Беатрис Лонгеннес, которая в работе "Kant’s Capacity to Judge" (1998) исследует связь между эстетическими и когнитивными суждениями, подвергая сомнению строгое разделение этих сфер.









