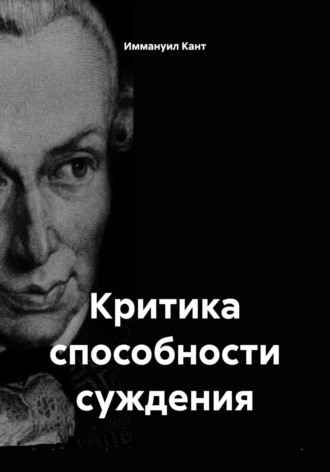
Полная версия
Критика способности суждения
Определение прекрасного, выведенное из четвёртого момента.
Прекрасно то, что познаётся без понятия как предмет необходимого удовольствия.
Общее замечание к первому разделу аналитики.
Если подвести итог вышеприведённым анализам, то окажется, что всё сводится к понятию вкуса: что он есть способность судить о предмете в отношении свободной закономерности воображения.
Если в суждении вкуса воображение должно рассматриваться в своей свободе, то оно, во-первых, принимается не как репродуктивное, подчинённое законам ассоциации, а как продуктивное и самодеятельное (как творец произвольных форм возможных созерцаний).
И хотя при схватывании данного предмета чувств оно связано с определённой формой этого объекта и потому не имеет свободной игры (как в поэзии), всё же можно понять, что предмет может дать ему именно такую форму, которая содержит соединение многообразного, какое воображение, если бы оно было предоставлено самому себе, набросало бы в согласии с закономерностью рассудка вообще.
Но что воображение свободно и тем не менее само по себе закономерно, то есть что оно несёт в себе автономию, – это противоречие. Только рассудок даёт закон.
Если же воображение вынуждено следовать определённому закону, то его продукт по форме определяется понятиями о том, каким он должен быть; но тогда удовольствие, как было показано, относится не к прекрасному, а к доброму (к совершенству, быть может, только формальному), и суждение не есть суждение вкуса.
Следовательно, только закономерность без закона и субъективное соответствие воображения рассудку без объективного, когда представление относится к определённому понятию о предмете, могут сочетаться со свободной закономерностью рассудка (которая также была названа целесообразностью без цели) и с особенностью суждения вкуса.
Геометрически правильные фигуры – круг, квадрат, куб и т. д. – обычно приводятся критиками вкуса как простейшие и несомненные примеры красоты. Однако они называются правильными именно потому, что их можно представить не иначе, как считая их лишь изображениями определённого понятия, предписывающего фигуре правило (по которому она только и возможна).
Следовательно, одно из двух должно быть ошибочным: либо суждение критиков, приписывающее упомянутым фигурам красоту, либо наше, требующее для красоты целесообразности без понятия.
Вряд ли кто-нибудь найдёт нужным прибегать к человеку со вкусом, чтобы предпочесть круглую фигуру каракулям, равносторонний и равноугольный четырёхугольник – косому, неравностороннему, как бы искалеченному: для этого нужен лишь обычный рассудок, а вовсе не вкус.
Там, где замечается цель – например, оценить величину площади или сделать наглядным отношение частей друг к другу и к целому при разделении, – необходимы правильные фигуры, притом простейшие; и удовольствие основывается не на непосредственном виде фигуры, а на её пригодности для всевозможных целей.
Комната с косыми углами, сад такой же формы, всякое нарушение симметрии в фигуре животных (например, одноглазость), зданий или цветочных клумб неприятно, потому что оно противоцелесообразно – не только практически в отношении определённого употребления этих вещей, но и для суждения во всех возможных отношениях.
Но в суждении вкуса дело обстоит иначе: если оно чисто, то связывает удовольствие или неудовольствие с простым созерцанием предмета безотносительно к употреблению или цели.
Правильность, ведущая к понятию предмета, есть, правда, необходимое условие (conditio sine qua non), чтобы охватить предмет в одном представлении и определить многообразное в его форме. Это определение есть цель в отношении познания, и в связи с ним оно всегда сопровождается удовольствием (которое сопутствует осуществлению всякой, хотя бы только проблематической, цели).
Но тогда это лишь одобрение решения, удовлетворяющего задаче, а не свободное и неопределённо-целесообразное занятие душевных сил тем, что мы называем прекрасным, и при котором рассудок служит воображению, а не наоборот.
В вещи, возможной только через цель, – в здании, даже в животном – правильность, состоящая в симметрии, должна выражать единство созерцания, сопровождающее понятие цели, и относится к познанию.
Но там, где требуется лишь свободная игра способностей представления (при условии, однако, что рассудок при этом не испытывает помех), – в увеселительных садах, убранстве комнат, всевозможных изящных принадлежностях и т. п., – правильность, показывающая себя как принуждение, избегается, насколько возможно.
Поэтому английский вкус в садах, барокко в мебели доводит свободу воображения почти до причудливого и в этом отстранении от всякого принуждения правилами полагает тот случай, когда вкус может показать своё наибольшее совершенство в замыслах воображения.
Всё жёстко правильное (приближающееся к математической правильности) заключает в себе нечто противное вкусу: оно не даёт длительного занятия при его рассмотрении и, если не имеет прямой целью познание или определённую практическую цель, наводит скуку.
Напротив, то, что даёт воображению возможность непринуждённой и целесообразной игры, всегда для нас ново, и мы не устаём им любоваться.
Марсден в своём описании Суматры замечает, что свободные красоты природы окружают зрителя там повсюду и потому мало его привлекают, тогда как перечный сад, где шесты, по которым вьётся это растение, образуют между собой параллельные линии аллей, если он встречал его среди леса, имел для него большую прелесть. И он заключает отсюда, что дикая, по-видимому, беспорядочная красота нравится лишь как смена тому, кто пресытился правильной.
Но ему стоило бы только попробовать провести день в своём перечном саду, чтобы понять, что, если рассудок через правильность приведён в настроение к порядку, который ему везде нужен, предмет уже не занимает его, а, напротив, налагает на воображение тягостное принуждение.
Напротив, природа, расточительная там до избытка в многообразии, не подчинённая никакому принуждению искусственных правил, может доставлять его вкусу постоянную пищу.
Даже пение птиц, которое мы не можем подвести ни под какие музыкальные правила, кажется содержащим больше свободы и потому более соответствующим вкусу, чем человеческое пение, организованное по всем правилам музыкального искусства: последним, если его часто и долго повторяют, пресыщаются гораздо скорее.
Впрочем, здесь мы, вероятно, подменяем наше участие в весёлости маленького любимого существа красотой его пения, которое, если оно точно подражаемо человеком (как это иногда бывает с трелями соловья), кажется нашему слуху совершенно безвкусным.
Ещё следует отличать прекрасные предметы от прекрасных видов на предметы (которые часто из-за удалённости уже нельзя ясно различать). В последних вкус, кажется, услаждается не столько тем, что воображение схватывает в этом поле, сколько тем, что даёт ему повод для вымысла, то есть собственными фантазиями, которыми занимается душа, между тем как она непрерывно возбуждается многообразием, на которое наталкивается глаз, чтобы задержаться.
Так, например, при виде изменчивых форм огня в камине или струящегося ручья, которые сами по себе не суть красоты, но имеют прелесть для воображения, потому что поддерживают его свободную игру.
Библиографический список работ кантоведов (отечественных).
Посвященных "Критике способности суждения", в частности "Аналитике прекрасного" (Первая книга) и "Суждению вкуса по качеству" (Первое мгнение).
Отечественные кантоведы.1. Асмус В. Ф.
– "Иммануил Кант и эстетика" (1963)
– Описание: Классический анализ кантовской эстетики, включая разбор "Аналитики прекрасного". Асмус рассматривает суждение вкуса как рефлектирующее, подчеркивая его субъективную всеобщность.
В. Ф. Асмус в работе «Иммануил Кант и эстетика» (1963) дает глубокий и аргументированный анализ «Критики способности суждения», уделяя особое внимание «Аналитике прекрасного» и первому моменту суждения вкуса – качеству. Асмус подчеркивает, что Кант радикально переосмысливает традиционные подходы к эстетике, перенося акцент с объекта на субъективное восприятие. «Суждение вкуса, – пишет Асмус, – есть суждение рефлектирующее, а не определяющее» (Асмус, 1963, с. 87), что означает: оно не подводит предмет под понятие, а лишь выражает отношение между представлением о предмете и чувством удовольствия или неудовольствия.
Кант начинает «Аналитику прекрасного» с рассмотрения суждения вкуса по качеству, утверждая: «Удовольствие, которое мы соединяем с представлением о предмете, называемом нами прекрасным, лишено всякого интереса» (Критика способности суждения, §1). Асмус акцентирует, что это ключевой тезис, отличающий эстетическое удовольствие от чувственного (связанного с приятным) и морального (связанного с добрым). «Безразличие к существованию предмета, – отмечает Асмус, – есть первый признак чистого суждения вкуса» (Асмус, 1963, с. 92). Это «незаинтересованное удовольствие» (interesseloses Wohlgefallen) означает, что эстетическая оценка не зависит от практических или познавательных целей субъекта.
Асмус подробно разбирает кантовское противопоставление «приятного» и «прекрасного». Если приятное «нравится в ощущении» и связано с индивидуальным чувственным влечением, то прекрасное «нравится вообще», безотносительно к личным предпочтениям (Критика способности суждения, §3). «Прекрасное, – пишет Асмус, – вызывает удовольствие, свободное от эмпирической случайности, и потому претендует на всеобщность» (Асмус, 1963, с. 95). Однако эта всеобщность – не логическая (как в теоретических суждениях), а субъективная, основанная на предположении общей чувственности (sensus communis).
Особое внимание Асмус уделяет кантовскому тезису о «целесообразности без цели» (Zweckmäßigkeit ohne Zweck). Прекрасное, по Канту, «имеет форму целесообразности», но не подчинено конкретной цели (Критика способности суждения, §10–11). Асмус поясняет: «Эстетическая целесообразность – это гармония познавательных способностей (воображения и рассудка), которая ощущается как удовольствие, но не сводится к понятийному познанию» (Асмус, 1963, с. 102). Таким образом, суждение вкуса отражает формальную согласованность предмета с нашей способностью восприятия, а не его полезность или смысл.
Асмус также анализирует противоречивость кантовской трактовки всеобщности суждения вкуса. С одной стороны, Кант утверждает, что эстетическое суждение «требует всеобщего согласия», с другой – подчеркивает его субъективность. «Кант, – пишет Асмус, – разрешает это противоречие через идею общей чувственности: мы вправе предполагать, что другие также испытают гармонию способностей при восприятии прекрасного» (Асмус, 1963, с. 110). Однако, как замечает Асмус, это не делает суждение вкуса объективным – его всеобщность остается «субъективно-необходимой».
В заключение Асмус отмечает, что кантовская «Аналитика прекрасного» заложила основы современной эстетики, сместив фокус с онтологии прекрасного на анализ субъективных условий его восприятия. «Кант показал, – резюмирует Асмус, – что эстетическое суждение есть акт свободы, в котором человек утверждает свою автономию от природной и практической необходимости» (Асмус, 1963, с. 120). Этот анализ остается классическим для понимания кантовской эстетики, раскрывая глубину и парадоксальность его концепции вкуса.
2. Гулыга А. В.
– "Кант" (1977, 2005)
– Описание: В главах, посвященных третьей "Критике", разбирается структура суждения вкуса, его отличие от познавательных и моральных суждений.
В «Критике способности суждения» Кант совершает поворот от теоретического и практического разума к рефлектирующей способности суждения, исследуя эстетические и телеологические принципы. Первая книга «Аналитики прекрасного» посвящена анализу суждения вкуса, его структуре и особенностям, а первое определение прекрасного («Суждение вкуса по качеству») раскрывает его как незаинтересованное удовольствие. Гулыга в своей монографии «Кант» (1977, 2005) подробно разбирает эти аспекты, подчеркивая, что кантовская эстетика не сводится к субъективному произволу, а основывается на априорных принципах, связывающих индивидуальное переживание с общезначимостью.
Кант начинает с того, что суждение вкуса – это эстетическое суждение, основанное не на понятии, а на чувстве удовольствия или неудовольствия. В отличие от познавательных суждений, которые подводят частное под общее (например, «этот предмет – роза»), и моральных суждений, опирающихся на категорический императив, суждение вкуса не имеет объективной основы и выражает лишь субъективное отношение к объекту. Однако, как отмечает Гулыга, «это не означает, что вкус произволен: Кант ищет в субъективном общезначимое» (Гулыга, 2005, с. 312).
Первое определение прекрасного гласит: «Вкус есть способность судить о прекрасном. Прекрасно то, что нравится без всякого интереса» (Кант, «Критика способности суждения», §5). Здесь Кант противопоставляет эстетическое удовольствие чувственному (связанному с приятным) и моральному (связанному с добрым). Чувственное удовольствие заинтересовано, так как связано с желанием обладать предметом («это вино вкусно» – я хочу его пить), а моральное суждение предполагает интерес разума к осуществлению добра. Прекрасное же нравится «без интереса», то есть его созерцание само по себе доставляет удовольствие, не требуя обладания или практической пользы. Гулыга подчеркивает, что это «чистое созерцание» освобождает эстетическое суждение от утилитарности и эгоизма, делая его независящим от личных склонностей (Гулыга, 2005, с. 315).
Важным моментом является различие между «нравится» и «признается прекрасным». Как пишет Кант, «когда я называю нечто прекрасным, я требую от других того же чувства» (§7), но это требование не основано на понятии, а предполагает общую чувственную способность. Гулыга обращает внимание на то, что Кант вводит идею «общего чувства» (sensus communis), которое, не будучи доказанным, служит регулятивным принципом эстетической коммуникации (Гулыга, 2005, с. 320). Таким образом, суждение вкуса, хотя и субъективно, претендует на всеобщее согласие, что отличает его от простого выражения личного предпочтения.
Кроме того, Кант указывает, что прекрасное связано с «целесообразностью без цели» (§10): форма предмета кажется соответствующей нашей способности восприятия, но мы не можем указать конкретную цель этой гармонии. Гулыга поясняет, что это «не объективная целесообразность, как в природе, а субъективная, выражающая свободную игру познавательных способностей – воображения и рассудка» (Гулыга, 2005, с. 325). Именно эта свободная игра и вызывает удовольствие, которое мы называем прекрасным.
Таким образом, первое определение прекрасного у Канта раскрывает его как незаинтересованное удовольствие, свободное от чувственных и моральных мотивов, но при этом претендующее на общезначимость. Гулыга подчеркивает, что «Кант не просто описывает эстетический опыт, а выявляет его трансцендентальные условия» (Гулыга, 2005, с. 330), что делает «Критику способности суждения» ключевым текстом не только для эстетики, но и для всей философской системы Канта.
3. Соколов В. В.
– "Философия Канта и современность" (1974)
– Описание: Анализ связей кантовской эстетики с его теоретической и практической философией. Особое внимание уделено "бескорыстному удовольствию" как ключевому критерию прекрасного.
Первая книга – «Аналитика прекрасного» – раскрывает суждение вкуса через четыре момента, отражающие категории количества, качества, отношения и модальности. Первый момент, посвященный качеству, определяет эстетическое суждение как основанное на «бескорыстном удовольствии» (interesseloses Wohlgefallen), что становится краеугольным камнем кантовской теории прекрасного. Этот тезис, детально проанализированный В. В. Соколовым в работе «Философия Канта и современность» (1974), демонстрирует глубинную связь между эстетикой Канта и его теоретической и практической философией, а также его влияние на последующую философскую традицию.
Бескорыстное удовольствие как критерий эстетического.
Кант начинает анализ с утверждения: «Удовольствие, которое мы соединяем с представлением о существовании предмета, называется интересом» (КЧС, §2, с. 204). Прекрасное же, напротив, вызывает удовольствие, свободное от интереса – будь то чувственное (как в приятном) или рациональное (как в добром). Это «бескорыстие» (Interesselosigkeit) означает, что суждение вкуса не зависит от практической полезности предмета, его моральной ценности или даже индивидуальных предпочтений. Как подчеркивает Соколов, такой подход позволяет Канту «отделить эстетическое от утилитарного и этического, сохранив при этом его связь со свободой» (Соколов, 1974, с. 215).
Кант иллюстрирует это противопоставлением прекрасного и приятного: «Тому, кому нравится вид прекрасного цветка, […] не нужно, чтобы этот цветок что-то значил для его вожделений» (КЧС, §3, с. 207). В этом – коренное отличие от гедонистических концепций, где удовольствие сводится к чувственному удовлетворению. Соколов отмечает, что Кант здесь «предвосхищает феноменологический метод, вынося за скобки все субъективные предпосылки» (Соколов, 1974, с. 218).
Всеобщность без понятия.
Второй ключевой аспект первого момента – субъективная всеобщность эстетического суждения. Хотя суждение вкуса не опирается на понятия (в отличие от познавательных суждений), оно претендует на общезначимость: «Когда мы называем что-то прекрасным, мы требуем такого же чувства от других» (КЧС, §6, с. 211). Эта антиномия (всеобщность без объективного основания) разрешается через апелляцию к «общему чувству» (sensus communis), которое, как указывает Соколов, «не является эмпирическим, а априорно предполагается как условие коммуникации» (Соколов, 1974, с. 223).
Связь с теоретической и практической философией.
Соколов акцентирует, что кантовская эстетика не изолирована, а интегрирована в его систему. Бескорыстное удовольствие отражает автономию эстетической сферы, аналогичную автономии морального закона в «Критике практического разума». При этом, как отмечает исследователь, «эстетическая способность суждения выступает медиумом между природой (теоретический разум) и свободой (практический разум)» (Соколов, 1974, с. 230). Это особенно явно в идее «целесообразности без цели», где прекрасное символизирует гармонию между чувственным и сверхчувственным.
Критика и современность.
Соколов подчеркивает, что кантовская концепция бескорыстия повлияла на эстетику Шиллера, Гегеля и даже феноменологию Гуссерля, для которого «эпохэ» аналогично кантовскому устранению интереса. Однако, как отмечает исследователь, «современная культура, с ее акцентом на потребление, ставит под вопрос саму возможность бескорыстного созерцания» (Соколов, 1974, с. 235).
Первый момент «Аналитики прекрасного» задает парадоксальную природу эстетического: оно субъективно, но претендует на всеобщность, чувственно, но связано со свободой. Как показывает Соколов, эта диалектика делает кантовскую эстетику не только ключом к пониманию «третьей Критики», но и мостом между его теоретической и практической философией, сохраняющим актуальность в спорах о природе искусства и вкуса.
Источники:
– Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 т. Т.5. М.: Мысль, 1966.
– Соколов В. В. Философия Канта и современность. М.: Мысль, 1974.
4. Библер В. С.
– "Кант – Галилей – Кант" (1991)
– Описание: Рассматривает эстетику Канта в контексте исторического развития философии, акцентируя момент "незаинтересованности" в суждении вкуса.
В. С. Библер в работе «Кант – Галилей – Кант» (1991) предлагает глубокий анализ «Критики способности суждения», уделяя особое внимание «Аналитике прекрасного» и первому моменту суждения вкуса – его качеству. Библер интерпретирует кантовскую эстетику не только как часть трансцендентальной системы, но и как поворотный пункт в истории философии, сопоставимый по значимости с научной революцией Галилея. Ключевым для понимания эстетики Канта становится принцип незаинтересованности, который Библер рассматривает как радикальный разрыв с предшествующей традицией, где прекрасное связывалось либо с полезностью, либо с моральной ценностью.
Кант определяет суждение вкуса как «удовольствие, свободное от всякого интереса» (Критика способности суждения, §5, с. 55). Библер подчеркивает, что это не просто психологическое отсутствие заинтересованности, а трансцендентальное условие эстетического суждения, выводящее его за пределы субъективных предпочтений. В этом смысле незаинтересованность – это не отказ от оценки, а, напротив, способность судить о прекрасном как если бы оно обладало всеобщей значимостью. Библер пишет: «Кант открывает здесь новый тип всеобщности – не логической, не моральной, но эстетической, которая возможна лишь в акте свободной игры познавательных способностей» (Библер, «Кант – Галилей – Кант», с. 112).
Анализируя первый момент суждения вкуса (качество), Кант утверждает, что прекрасное нравится «без понятия» и «без цели». Библер акцентирует парадоксальность этой формулы: эстетическое суждение не опирается на рассудочные категории, но при этом претендует на общезначимость. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что Кант выходит за рамки классического рационализма, предлагая «логику эстетического разрыва», где прекрасное не подчиняется заранее заданным правилам, но «рождается в момент суждения» (там же, с. 118).
Библер также обращает внимание на связь кантовской эстетики с проблемой историчности. Если Галилей, по его мнению, открыл «новый космос» через математизацию природы, то Кант – «новый космос культуры», где эстетическое суждение становится способом «удержания уникального в всеобщем» (с. 125). Незаинтересованность, таким образом, – это не холодное отстранение, а условие возможности свободной коммуникации между людьми, основанной не на принуждении, а на «согласии без принуждения» (Кант, §22, с. 100).
В заключение Библер отмечает, что кантовская «Аналитика прекрасного» предвосхищает современные дискуссии о природе искусства: «Кант не просто описывает суждение вкуса – он открывает пространство, где субъективность становится условием всеобщности, а случайное – необходимым» (с. 134). Этот анализ позволяет увидеть в «Критике способности суждения» не только завершение критической системы, но и проект новой философии культуры, где эстетическое занимает центральное место.
5. Михайлов И. А.
– "Ранний Хайдеггер и кантовская критика способности суждения" (2014)
– Описание: Исследует влияние кантовской эстетики на Хайдеггера, особенно в аспекте "первого мгновения" суждения вкуса.
В "Критике способности суждения" (1790) Иммануил Кант разрабатывает теорию эстетического суждения, ключевым моментом которой является анализ прекрасного в "Аналитике прекрасного". Особое внимание здесь заслуживает "первое мгновение" суждения вкуса, связанное с его качеством, которое Кант определяет как "незаинтересованное удовольствие" (§1, 5:203). Этот тезис становится центральным для последующей философской традиции, включая интерпретации Мартина Хайдеггера, чье раннее творчество во многом переосмысляет кантовскую эстетику. В работе Михайлова И. А. "Ранний Хайдеггер и кантовская критика способности суждения" (2014) подчеркивается, что именно момент незаинтересованности становится точкой схождения и расхождения Канта и Хайдеггера в понимании эстетического опыта.
1. Кантовская "незаинтересованность" как основа суждения вкуса .
Кант начинает "Аналитику прекрасного" с утверждения, что суждение вкуса – это суждение, "определяющее предмет независимо от понятия посредством удовольствия или неудовольствия" (§1, 5:203). Качество этого суждения заключается в том, что оно свободно от всякого интереса, будь то чувственный (например, наслаждение от еды) или интеллектуальный (например, моральная оценка). Михайлов отмечает, что "незаинтересованность" у Канта – это не просто отсутствие интереса, а особый модус отношения субъекта к объекту, при котором прекрасное "нравится без понятия" (§9, 5:219).
Хайдеггер, однако, в своих лекциях 1920-х годов (особенно в "Феноменологической интерпретации "Критики чистого разума" Канта", 1927/28) переосмысливает этот момент, акцентируя не столько гносеологический, сколько онтологический аспект эстетического суждения. Для него кантовская "незаинтересованность" – это не просто отстраненность, а способ раскрытия бытия вещи в ее чистой явленности. Михайлов пишет: "Хайдеггер видит в кантовском эстетическом суждении момент 'открытости' бытия, когда вещь предстает не как объект познания, а как 'самораскрывающееся присутствие'" (Михайлов, 2014, с. 45).
2. Первое мгновение суждения вкуса: удовольствие без понятия.
Кант подчеркивает, что суждение вкуса не зависит от понятий, а значит, не подчиняется логике рассудка. В "первом мгновении" суждения вкуса он выделяет:









