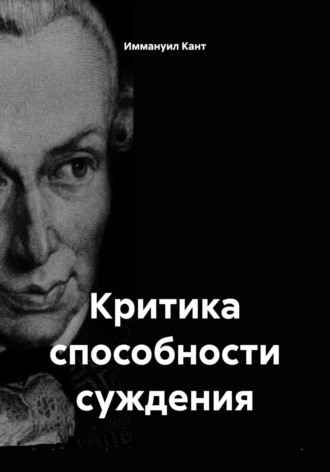
Полная версия
Критика способности суждения
Однако именно этот тезис вызывает критику со стороны Бриджит Сассен в работе "Kant on Beauty and the Normative Force of Feeling" (2004). Она ставит под сомнение строгое разделение между незаинтересованностью и нормативностью чувства. Сассен указывает, что Кант, с одной стороны, настаивает на субъективности эстетического опыта, а с другой – приписывает суждению вкуса притязание на всеобщее согласие (§7, 212). Это создает парадокс: как чувство, лишенное понятийного основания, может требовать всеобщности?
Нормативная сила чувства: критика Сассен.
Сассен акцентирует внимание на том, что Кант пытается совместить два, казалось бы, несовместимых аспекта:
1. Субъективность – удовольствие от прекрасного не опосредовано понятиями и потому индивидуально.
2. Всеобщность – суждение вкуса предполагает, что другие также должны согласиться с ним.
Кант разрешает этот парадокс через идею общей чувственности (sensus communis), которая, по его мнению, является априорным условием коммуникации чувств (§20, 238). Однако Сассен возражает: если чувство прекрасного действительно субъективно, то почему оно должно быть общезначимым? Она отмечает, что Кант неявно вводит нормативный элемент в эстетику, что противоречит его же утверждению о свободе от понятий.
Ответ Канта и дальнейшие противоречия.
Кант мог бы ответить, что всеобщность суждения вкуса основана не на объективных правилах, а на формальной целесообразности – гармонии познавательных способностей, которая потенциально присуща всем субъектам (§9, 217). Но Сассен подчеркивает, что это не снимает проблему: если гармония воображения и рассудка универсальна, то почему вкусы людей различаются? Кант признает, что эмпирически всеобщее согласие недостижимо, но настаивает на его идеальной необходимости.
Заключение: эстетика между субъективностью и универсальностью.
Критика Сассен выявляет напряжение в кантовской аргументации: с одной стороны, чувство прекрасного должно быть свободным от понятий, с другой – оно претендует на нормативную силу. Этот дуализм остается одной из центральных проблем интерпретации кантовской эстетики, демонстрируя сложность совмещения субъективности и универсальности в философии вкуса.
Вторая книга. Аналитика возвышенного.
§ 23. Переход от способности суждения о прекрасном к способности суждения о возвышенном.Прекрасное сходится с возвышенным в том, что оба нравятся сами по себе. Кроме того, в том, что оба предполагают не чувственное и не логически определяющее, а рефлектирующее суждение: следовательно, удовольствие связано не с ощущением, как в приятном, и не с определенным понятием, как удовольствие от хорошего, но тем не менее относится к понятиям, хотя и неопределенным; поэтому удовольствие связано с самой способностью представления или с этой способностью, благодаря которой способность представления или воображение при данной интуиции рассматривается в согласии со способностью понятий рассудка или разума, как содействующей последней. Таким образом, оба вида суждений единичны и в то же время претендуют на всеобщую значимость для каждого субъекта, хотя они основываются лишь на чувстве удовольствия и не претендуют на познание объекта.
Однако между ними есть и заметные различия. Красота природы касается формы объекта, которая заключается в ограниченности; возвышенное же можно найти и в бесформенном объекте, поскольку в нем или благодаря ему представляется безграничность, и тем не менее мыслится его тотальность: так что прекрасное, кажется, служит для представления неопределенного понятия рассудка, а возвышенное – подобного понятия разума. Следовательно, удовольствие от прекрасного связано с представлением качества, а от возвышенного – количества.
Кроме того, последнее удовольствие по своему характеру сильно отличается от первого: если прекрасное непосредственно вызывает чувство содействия жизни и потому совместимо с прелестями и игрой воображения, то чувство возвышенного есть удовольствие, возникающее лишь косвенно, а именно через чувство мгновенного торможения жизненных сил и последующего тем более сильного их излияния, поэтому оно кажется не игрой, а серьезным занятием воображения. Следовательно, оно несовместимо с прелестями, и так как душа не только притягивается объектом, но и попеременно отталкивается, удовольствие от возвышенного содержит не столько положительное удовольствие, сколько восхищение или уважение, то есть заслуживает названия отрицательного удовольствия.
Но самое важное и внутреннее различие между возвышенным и прекрасным, пожалуй, состоит в следующем: если мы, как и следует, рассмотрим сначала лишь возвышенное в природных объектах (в искусстве оно всегда ограничено условиями согласия с природой), то природная красота (самостоятельная) несет в себе целесообразность формы, благодаря которой объект кажется предопределенным для нашей способности суждения и потому сам по себе составляет предмет удовольствия; напротив, то, что в нас, без всякого умствования, вызывает чувство возвышенного при одном лишь восприятии, может казаться по форме нецелесообразным для нашей способности суждения, несоразмерным нашей способности представления и даже насильственным для воображения, но тем не менее считается тем более возвышенным.
Отсюда сразу видно, что мы выражаемся вообще неверно, если называем какой-либо объект природы возвышенным, хотя можем совершенно правильно называть многие из них прекрасными; ибо как можно выражать одобрение тому, что воспринимается само по себе как нецелесообразное? Мы можем лишь сказать, что объект пригоден для представления возвышенности, которая может быть обнаружена в душе; ибо подлинное возвышенное не может содержаться ни в какой чувственной форме, а касается лишь идей разума: которые, хотя и не могут быть адекватно представлены, именно через эту несоразмерность, способную быть чувственно изображенной, пробуждаются и вызываются в душе.
Так, необъятный океан, взволнованный бурями, нельзя назвать возвышенным. Его вид ужасен; и душа уже должна быть наполнена разнообразными идеями, чтобы такое созерцание могло вызвать в ней чувство, которое само возвышенно, ибо душа побуждается оставить чувственность и обратиться к идеям, содержащим высшую целесообразность.
Самостоятельная красота природы открывает нам технику природы, которая представляет ее как систему по законам, принцип которых мы не находим во всей нашей рассудочной способности, а именно по принципу целесообразности относительно применения способности суждения к явлениям, так что они должны оцениваться не только как принадлежащие к природе в ее бесцельном механизме, но и как аналогичные искусству. Таким образом, она действительно расширяет не наше познание природных объектов, но наше понятие о природе, а именно от понятия о ней как о простом механизме к понятию о ней как об искусстве: что побуждает к глубоким исследованиям возможности такой формы.
Но в том, что мы привыкли называть в природе возвышенным, нет ничего, что указывало бы на особые объективные принципы и соответствующие им формы природы; скорее, именно в ее хаосе или в самом диком, беспорядочном и разрушительном беспорядке, если только в нем видимы величина и мощь, идеи возвышенного пробуждаются сильнее всего.
Отсюда мы видим, что понятие возвышенного в природе далеко не так важно и богато следствиями, как понятие прекрасного в ней; и что оно вообще указывает не на целесообразность в самой природе, а лишь на возможное использование ее созерцаний, чтобы сделать ощутимой в нас самих целесообразность, совершенно независимую от природы. Для прекрасного в природе мы должны искать основание вне нас, для возвышенного же – лишь в нас и в образе мыслей, который вносит возвышенность в представление о природе. Это очень необходимое предварительное замечание, которое полностью отделяет идеи возвышенного от идеи целесообразности природы и превращает его теорию в простое приложение к эстетической оценке целесообразности природы, потому что в ней не представляется никакой особой формы, а лишь раскрывается целесообразное использование, которое делает воображение из ее представления.
§ 24. О разделении исследования чувства возвышенного.Что касается разделения моментов эстетической оценки объектов в отношении чувства возвышенного, то аналитика может следовать тому же принципу, что и при анализе суждений вкуса. Ибо как суждение эстетической рефлектирующей способности суждения удовольствие от возвышенного, так же как и от прекрасного, по количеству должно быть общезначимым, по качеству – незаинтересованным, по отношению – субъективно целесообразным, а по модальности – представлять эту целесообразность как необходимую.
Таким образом, метод здесь не будет отличаться от метода в предыдущем разделе, если только не считать существенным то, что там, где эстетическое суждение касалось формы объекта, мы начинали с исследования качества, а здесь, при бесформенности, которая может быть свойственна тому, что мы называем возвышенным, начнем с количества как первого момента эстетического суждения о возвышенном.
Но анализ возвышенного требует одного разделения, которое не нужно для анализа прекрасного, а именно разделения на математически и динамически возвышенное.
Ибо так как чувство возвышенного несет в себе как свой характер движение души, связанное с оценкой объекта, тогда как вкус к прекрасному предполагает и сохраняет душу в спокойном созерцании, и так как это движение должно оцениваться как субъективно целесообразное (поскольку возвышенное нравится), то оно относится воображением либо к способности познания, либо к способности желания, но в обоих случаях целесообразность данного представления оценивается лишь в отношении этих способностей (без цели или интереса).
Таким образом, первое относится к математическому, второе – к динамическому настроению воображения, приписываемому объекту, и потому объект представляется возвышенным в обоих этих смыслах.
А. О математически возвышенном.
§ 25. Объяснение названия возвышенного.Возвышенным мы называем то, что безусловно велико. Но быть великим и быть величиной – совершенно разные понятия. Точно так же просто сказать, что что-то велико, – совсем не то же самое, что сказать, что оно безусловно велико. Последнее есть то, что велико сверх всякого сравнения.
Но что означает выражение, что что-то велико, мало или средне? Это не чистый рассудочный концепт, не чувственное созерцание и не разумная идея, ибо оно не содержит принципа познания. Следовательно, это должен быть концепт способности суждения или производный от него, основывающийся на субъективной целесообразности представления относительно способности суждения.
То, что нечто есть величина, можно узнать из самого объекта без всякого сравнения с другими, если множество однородного составляет одно целое. Но чтобы определить, насколько оно велико, всегда требуется нечто другое, также являющееся величиной, в качестве меры.
Если я просто говорю, что что-то велико, то, кажется, у меня нет в виду никакого сравнения, по крайней мере, с объективной мерой, ибо это вовсе не определяет, насколько велик объект. Но хотя масштаб сравнения лишь субъективен, суждение тем не менее претендует на всеобщее согласие.
Когда мы называем что-то просто великим, это не математически определяющее, а лишь рефлектирующее суждение о представлении объекта, субъективно целесообразном для определенного использования наших познавательных способностей в оценке величины.
Но если мы называем что-то не просто великим, а безусловно, абсолютно, во всех отношениях (сверх всякого сравнения) великим, то есть возвышенным, то сразу видно, что мы не допускаем для него никакого масштаба, соответствующего ему вне его, а лишь в нем самом. Это величина, равная только самой себе.
Таким образом, возвышенное следует искать не в вещах природы, а лишь в наших идеях.
Приведенное объяснение можно выразить и так: возвышенно то, по сравнению с чем все остальное мало.
Ничто в природе, как бы велико оно ни было, не может быть названо возвышенным в этом смысле, ибо всегда можно представить нечто большее. Но именно несоразмерность нашей способности оценивать величину вещей чувственного мира для этой идеи пробуждает в нас чувство сверхчувственной способности.
Поэтому мы можем добавить к предыдущим определениям возвышенного следующее: возвышенно то, сама возможность мыслить что свидетельствует о способности души, превосходящей всякий масштаб чувств.
§ 26. Оценка величины природных предметов, необходимая для идеи возвышенного.Оценка величины с помощью числовых понятий (или их символов в алгебре) является математической, тогда как оценка, основанная на чистом созерцании (по глазомеру), – эстетической. Хотя мы можем получить определенные понятия о том, насколько что-то велико, только через числа (в некоторых случаях – через приближения с помощью бесконечных числовых рядов), где единица служит мерой, и в этом смысле всякая логическая оценка величины математична. Однако поскольку сама величина меры должна быть принята как известная, то если бы её снова нужно было оценивать только через числа, единицей которых должна была бы стать другая мера (то есть математически), мы никогда не смогли бы получить первичную или основную меру, а значит, и никакого определенного понятия о данной величине. Следовательно, оценка величины основной меры должна состоять исключительно в том, что её можно непосредственно схватить в созерцании и использовать силой воображения для представления числовых понятий. Иными словами, всякая оценка величины объектов природы в конечном счете эстетична (то есть субъективна и определена не объективно).
Для математической оценки величины нет наибольшего (поскольку сила чисел простирается в бесконечность), но для эстетической оценки, безусловно, существует наибольшее. И о нём я скажу: если оно оценивается как абсолютная мера, превыше которой для субъекта (субъекта, производящего оценку) невозможно представить ничего большего, то оно несёт в себе идею возвышенного и вызывает то волнение, которое не может быть порождено математической оценкой величины через числа (разве только в той мере, в которой эта эстетическая основная мера сохраняется живою в воображении). Ибо последняя всегда представляет лишь относительную величину через сравнение с другими того же рода, тогда как первая представляет величину абсолютно, насколько душа способна охватить её в созерцании.
Чтобы наглядно воспринять количество в воображении и использовать его как меру или единицу для оценки величины через числа, требуются два действия этой способности: схватывание (apprehensio) и объединение (comprehensio aesthetica). Со схватыванием нет проблем: оно может продолжаться до бесконечности. Но объединение становится тем труднее, чем дальше продвигается схватывание, и вскоре достигает своего максимума – эстетически наибольшей основной меры оценки величины. Ибо когда схватывание заходит так далеко, что первые схваченные частичные представления чувственного созерцания уже начинают угасать в воображении, в то время как оно продолжает схватывать новые, то теряет на одной стороне столько же, сколько приобретает на другой, и в объединении есть наибольшее, за пределы которого оно выйти не может.
Этим можно объяснить замечание Савари в его «Известиях о Египте»: чтобы получить полное впечатление от величины пирамид, не следует подходить к ним слишком близко, но и не следует находиться слишком далеко. Ибо в последнем случае схваченные части (камни, расположенные друг на друге) представляются лишь смутно, и их представление не оказывает воздействия на эстетическое суждение субъекта. В первом же случае глазу требуется некоторое время, чтобы завершить схватывание от основания до вершины, но за это время первые впечатления частично угасают, прежде чем воображение успевает воспринять последующие, и объединение никогда не бывает полным. То же самое может объяснить то смятение или род замешательства, которое, как рассказывают, охватывает зрителя при первом входе в собор Святого Петра в Риме. Ибо здесь возникает чувство несоразмерности воображения для представления идеи целого, в котором воображение достигает своего максимума и, стремясь расширить его, само собой опускается, но тем самым приходит к трогательному удовольствию.
Пока я не буду касаться основания этого удовольствия, которое связано с представлением, от которого его менее всего можно было бы ожидать, а именно – представлением, позволяющим нам заметить несоразмерность, а значит, и субъективную нецелесообразность представления для способности суждения в оценке величины. Отмечу лишь, что если эстетическое суждение должно быть чистым (не смешанным с телеологическим, как суждением разума) и если требуется привести пример, полностью соответствующий критике эстетической способности суждения, то возвышенное следует показывать не в произведениях искусства (например, зданиях, колоннах и т. д.), где человеческая цель определяет как форму, так и величину, и не в природных объектах, понятие которых уже включает определенную цель (например, животных с известным природным назначением), а в дикой природе (и даже в ней лишь постольку, поскольку она сама по себе не содержит прелести или волнения от реальной опасности), лишь постольку, поскольку она содержит величину. Ибо в этом виде представления природа не содержит ничего чудовищного (ничего великолепного или ужасного): величина, которую схватывают, может возрастать сколько угодно, если только воображение способно объединить её в целое. Чудовищным называется объект, если его величина разрушает цель, составляющую его понятие. Колоссальным же называется просто представление понятия, которое почти слишком велико для всякого представления (граничащее с относительно чудовищным), потому что цель представления понятия затруднена тем, что созерцание объекта почти слишком велико для нашей способности схватывания. Чистое суждение о возвышенном не должно иметь в основе никакой цели объекта, если оно должно быть эстетическим и не смешанным с каким-либо рассудочным или разумным суждением.
Поскольку всё, что должно нравиться лишь рефлектирующей способности суждения без интереса, должно содержать в своём представлении субъективную и как таковую общезначимую целесообразность, но здесь в основе суждения лежит не целесообразность формы объекта (как в прекрасном), то возникает вопрос: какова эта субъективная целесообразность? И чем она предписывается как норма, чтобы в простой оценке величины, доведённой даже до несоразмерности нашей способности воображения в представлении понятия о величине, служить основанием для общезначимого удовольствия?
Воображение в процессе составления, необходимого для представления величины, само по себе, без каких-либо препятствий, продвигается в бесконечность; но рассудок направляет его с помощью числовых понятий, для которых воображение должно предоставить схему. В этом процессе, относящемся к логической оценке величины, есть нечто объективно целесообразное согласно понятию о цели (каковой является всякое измерение), но нет ничего целесообразного и приятного для эстетической способности суждения. В этой намеренной целесообразности также нет ничего, что заставляло бы увеличивать меру величины, а значит, и объединять множество в одно созерцание до предела способности воображения и настолько, насколько оно вообще может простираться в представлениях. Ибо в рассудочной оценке величин (в арифметике) достигают того же результата, сводя объединение единиц до числа 10 (в десятичной системе) или только до 4 (в тетрактике). Дальнейшее порождение величины в соединении или, если величина дана в созерцании, в схватывании происходит лишь прогрессивно (не объединяюще) согласно принятому принципу прогрессии. Рассудок в этой математической оценке величины обслуживается и удовлетворяется одинаково хорошо, выбирает ли воображение в качестве единицы величину, которую можно охватить одним взглядом (например, фут или сажень), или же немецкую милю, или даже диаметр Земли, которые можно схватить, но невозможно объединить в одно созерцание воображения (не через эстетическое объединение, хотя вполне возможно через логическое объединение в числовое понятие). В обоих случаях логическая оценка величины беспрепятственно продвигается в бесконечность.
Но в душе звучит голос разума, который требует тотальности для всех данных величин, даже тех, которые хотя и не могут быть полностью схвачены, но всё же (в чувственном представлении) оцениваются как полностью данные, а значит, требует объединения в одно созерцание и представления всех членов прогрессивно возрастающего числового ряда, и даже бесконечное (пространство и прошедшее время) не исключает этого требования, а, напротив, делает неизбежным мыслить его (в суждении обыденного разума) как данное целиком (в своей тотальности).
Но бесконечное абсолютно (не только сравнительно) велико. В сравнении с ним всё остальное (того же рода величины) мало. Однако, что важнее, сама возможность мыслить его как целое указывает на способность души, превосходящую всякую меру чувств. Ибо для этого потребовалось бы объединение, которое дало бы меру как единицу, имеющую определенное, выражаемое в числах отношение к бесконечному, что невозможно. Но даже просто мыслить данное бесконечное без противоречия требует способности, которая сама по себе сверхчувственна и присуща человеческой душе. Только через неё и её идею ноумена, который сам не допускает созерцания, но подлежит как субстрат мировому созерцанию, как простому явлению, бесконечное чувственного мира в чисто интеллектуальной оценке величины полностью объединяется под одним понятием, хотя в математической оценке через числовые понятия оно никогда не может быть мыслимо целиком. Даже способность мыслить бесконечное сверхчувственного созерцания как данное (в его интеллигибельном субстрате) превосходит всякую меру чувственности и велико сверх всякого сравнения даже со способностью математической оценки – правда, не в теоретическом отношении для познавательной способности, но как расширение души, которая чувствует себя способной преодолевать границы чувственности в другом (практическом) отношении.
Возвышенное в природе.
Возвышенным является то явление природы, созерцание которого вызывает в нас идею ее бесконечности. Это происходит из-за несоразмерности даже самых больших усилий нашего воображения при оценке величины объекта.
В математической оценке величины воображение способно справиться с любым объектом, поскольку числовые понятия рассудка позволяют прогрессивно охватывать любую данную величину. Однако в эстетической оценке мы ощущаем, как стремление к синтезу превосходит способности воображения, и в то же время осознаем несоразмерность этого безграничного прогресса.
Истинной и неизменной мерой природы является ее абсолютная целостность, которая в явлениях предстает как бесконечность. Но поскольку сама идея абсолютной целостности противоречива (из-за невозможности завершить бесконечный прогресс), то величина природного объекта, перед которым воображение бессильно, приводит нас к сверхчувственному основанию природы. Это основание превосходит все чувственные масштабы и заставляет нас судить не столько о самом объекте, сколько о состоянии души, оценивающей его как возвышенное.
Сравнение прекрасного и возвышенного.
Подобно тому как в суждении о прекрасном воображение свободно соотносится с рассудком, в суждении о возвышенном оно соотносится с разумом. Это вызывает состояние души, соответствующее влиянию практических идей разума.
Истинное возвышенное следует искать не в природных объектах, а в душе того, кто их оценивает. Кто назовет возвышенными бесформенные нагромождения гор, хаотические ледяные пики или бурное море? Но душа возвышается в собственном суждении, когда, созерцая их, она осознает, что вся мощь воображения недостаточна для выражения идей разума.
Примеры математически возвышенного.
Примеры математически возвышенного в природе дают случаи, когда воображению предлагается не просто большое число, а огромная единица как мера. Дерево, измеряемое ростом человека, становится мерой для горы; гора – единицей для диаметра Земли; диаметр Земли – для Солнечной системы; Солнечная система – для Млечного Пути; а бесчисленные галактики, называемые туманностями, не оставляют места для границ.
Возвышенное здесь заключается не в величине числа, а в том, что мы продвигаемся ко все большим единицам. Систематическое устройство мироздания показывает, что все великое в природе в сравнении с идеями разума ничтожно, а воображение, несмотря на свою безграничность, исчезает перед ними.
§ 27. О качестве удовольствия в суждении о возвышенном.Чувство несоответствия нашей способности достижению идеи, которая для нас является законом, есть уважение. Теперь идея объединения всякого данного нам явления в созерцание целого – это такая идея, которая налагается на нас законом разума, не признающим иного определенного, общезначимого и неизменного мерила, кроме абсолютной целостности. Однако наше воображение даже при наибольшем усилии в отношении требуемого от него объединения данного объекта в целое созерцания (а значит, и для представления идеи разума) обнаруживает свои границы и несоответствие, но в то же время и свое назначение – стремиться к соответствию с этой идеей как с законом. Таким образом, чувство возвышенного в природе есть уважение к нашему собственному назначению, которое мы приписываем объекту природы посредством некоторой подмены (замены уважения к объекту на уважение к идее человечества в нашем субъекте), что делает для нас наглядным превосходство разумного определения наших познавательных способностей над величайшей способностью чувственности.









