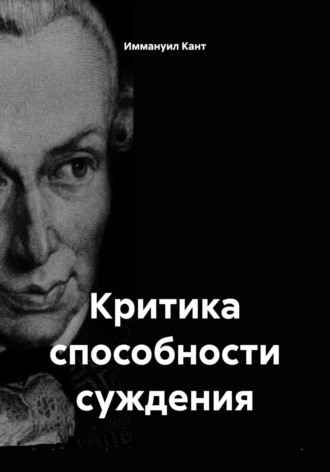
Полная версия
Критика способности суждения
Для оценки объективной целесообразности нам всегда необходимо понятие цели и (если эта целесообразность должна быть не внешней [полезностью], а внутренней) понятие внутренней цели, содержащей основание внутренней возможности предмета. Поскольку цель вообще есть то, понятие чего может рассматриваться как основание возможности самого предмета, то, чтобы представить себе объективную целесообразность в вещи, должно предварительно иметь понятие о том, чем эта вещь должна быть; а соответствие многообразия в ней этому понятию (которое дает правило соединения этого многообразия) есть качественное совершенство вещи. От этого совершенно отличается количественное совершенство как полнота каждой вещи в своем роде, представляющее собой лишь понятие величины (всеобщности), где заранее мыслится определенным, чем вещь должна быть, и спрашивается только, есть ли в ней все для этого необходимое. Формальное в представлении вещи, т. е. соответствие многообразия чему-то единому (неопределенному, чем оно должно быть), само по себе вовсе не дает познать никакой объективной целесообразности, ибо, поскольку от этого единого как цели (чем вещь должна быть) отвлекаются, остается лишь субъективная целесообразность представлений в душе созерцающего, которая, хотя и указывает на некоторую целесообразность состояния представления в субъекте и в этом смысле на его удобство для восприятия данной формы в воображении, но не дает никакого совершенства какого-либо объекта, который здесь не мыслится через понятие цели. Например, если я нахожу в лесу лужайку, вокруг которой деревья стоят кругом, и не представляю при этом никакой цели, скажем, что она должна служить для сельского танца, то никакое понятие совершенства не дается через одну лишь форму. Но представлять себе формальную объективную целесообразность без цели, т. е. чистую форму совершенства (без всякой материи и понятия того, с чем она согласуется, даже если бы это была лишь идея закономерности вообще), есть настоящее противоречие.
Теперь суждение вкуса есть эстетическое суждение, т. е. такое, которое основывается на субъективных основаниях и определяющим основанием которого не может быть понятие, а следовательно, и понятие определенной цели. Поэтому через красоту как формальную субъективную целесообразность отнюдь не мыслится совершенство предмета как якобы формальная, но все же объективная целесообразность; и различие между понятиями прекрасного и доброго, будто они различаются только по логической форме, первое есть лишь смутное, а второе – ясное понятие совершенства, а по содержанию и происхождению они тождественны, – несостоятельно, ибо тогда между ними не было бы специфического различия, и суждение вкуса было бы столь же познавательным суждением, как и суждение, которым что-то объявляется добрым; подобно тому как простой человек, говоря, что обман дурен, основывает свое суждение на смутных, а философ – на ясных принципах, но в основе те и другие одни и те же. Однако я уже отмечал, что эстетическое суждение единственно в своем роде и вовсе не дает познания (даже смутного) об объекте; последнее происходит только через логическое суждение, тогда как эстетическое суждение относит представление, которым дан объект, исключительно к субъекту и не отмечает никакого свойства объекта, а лишь целесообразную форму в определении познавательных способностей, занятых этим представлением. Оно называется эстетическим именно потому, что его определяющее основание – не понятие, а чувство (внутреннего чувства) согласия в игре душевных сил, поскольку оно может быть только ощущаемо. Напротив, если бы кто-то захотел назвать смутные понятия и основанное на них объективное суждение эстетическими, то пришлось бы допустить рассудок, судящий чувственно, или чувство, представляющее свои объекты через понятия, что в обоих случаях противоречиво. Способность понятий, будь они смутными или ясными, есть рассудок; и хотя вкусовое суждение как эстетическое суждение (как и все суждения) предполагает рассудок, однако не как способность познания объекта, а как способность определения суждения и его представления (без понятия) согласно отношению их к субъекту и его внутреннему чувству, притом так, чтобы это суждение было возможно по всеобщему правилу.
§ 16. Суждение вкуса, объявляющее объект прекрасным при условии определенного понятия, не является чистым.Есть два вида красоты: свободная красота (pulchritudo vaga) или лишь привходящая красота (pulchritudo adhaerens). Первая не предполагает никакого понятия о том, чем должен быть предмет; вторая предполагает такое понятие и совершенство предмета согласно ему. Виды первой называются (сами по себе существующими) красотами того или иного предмета; вторая приписывается предметам, подчиненным понятию определенной цели (условная красота).
Цветы – свободные красоты природы. Что такое цветок, едва ли знает кто-либо, кроме ботаника; и даже он, признающий в нем орган оплодотворения растения, не принимает во внимание эту естественную цель, когда судит о цветке со вкусом. Следовательно, в основе этого суждения не лежит никакое совершенство какого-либо рода, никакая внутренняя целесообразность, к которой относилось бы соединение многообразия. Многие птицы (попугай, колибри, райская птица), множество морских раковин сами по себе суть красоты, которые не принадлежат никакому предмету, определенному в отношении его цели понятиями, а свободны и нравятся сами по себе. Так же рисунки а ля грек, лиственный орнамент для рамок или обоев и т. п. сами по себе ничего не значат: они ничего не изображают, не представляют объекта под определенным понятием и суть свободные красоты. Можно отнести к тому же роду и то, что в музыке называют фантазиями (без темы), да и всю музыку без текста.
В оценке свободной красоты (по одной лишь форме) суждение вкуса чисто. Оно не предполагает никакого понятия о цели, которой должно служить многообразие данного предмета и которую он, следовательно, должен представлять, что ограничило бы свободу воображения, которое как бы играет, наблюдая форму.
Но красота человека (а в этом виде красота мужчины, женщины или ребенка), красота лошади, здания (как церкви, дворца, арсенала или беседки) предполагает понятие цели, определяющее, чем должна быть вещь, следовательно, понятие ее совершенства, и потому есть лишь привходящая красота. Как соединение приятного (ощущения) с красотой, которая собственно касается лишь формы, мешает чистоте суждения вкуса, так соединение доброго (того, для чего многообразие в самой вещи хорошо согласно ее цели) с красотой вредит его чистоте.
Можно было бы придать зданию много непосредственно приятного в созерцании, если бы оно не должно было быть церковью; фигуру можно было бы украсить всякими завитками и легкими, но правильными чертами, как это делают новозеландцы со своими татуировками, если бы это не был человек; и у человека могли бы быть более тонкие черты и более приятный, мягкий контур лица, если бы он не должен был изображать мужчину или даже воина.
Теперь удовольствие от многообразия в вещи в отношении к внутренней цели, определяющей ее возможность, есть удовольствие, основанное на понятии; удовольствие же от красоты есть такое, которое не предполагает понятия, а непосредственно связано с представлением, которым предмет дан (а не которым он мыслится). Если суждение вкуса в отношении последнего делается зависимым от цели в первом, как суждение разума, и тем самым ограничивается, то оно уже не есть свободное и чистое суждение вкуса.
Правда, вкус выигрывает от этого соединения эстетического удовольствия с интеллектуальным тем, что он становится устойчивым и, хотя и не всеобщим, но в отношении некоторых целесообразно определенных предметов могут быть предписаны правила. Однако это уже не правила вкуса, а лишь правила согласования вкуса с разумом, т. е. прекрасного с добрым, посредством чего первое становится орудием намерения в отношении последнего, чтобы подчинить то душевное настроение, которое само по себе устойчиво и обладает субъективной всеобщей значимостью, тому образу мыслей, который может быть сохранен лишь с трудом, но обладает объективной всеобщей значимостью. В действительности же ни совершенство не выигрывает от красоты, ни красота от совершенства; но так как нельзя избежать того, чтобы, сравнивая представление, которым нам дан предмет, с самим предметом (в отношении того, чем он должен быть) через понятие, мы не соотносили его одновременно с ощущением в субъекте, то выигрывает вся способность представления, когда оба душевных состояния согласуются.
Суждение вкуса в отношении предмета с определенной внутренней целью было бы чистым только в том случае, если бы судящий либо не имел понятия об этой цели, либо абстрагировался от него в своем суждении. Но тогда он, хотя и выносил бы правильное суждение вкуса, оценивая предмет как свободную красоту, все же был бы осужден другим, который рассматривает красоту в предмете лишь как привходящее свойство (смотрит на цель предмета), и обвинен в ложном вкусе, хотя оба судят правильно, каждый по-своему: один – по тому, что он имеет перед чувствами, другой – по тому, что он имеет в мыслях. Этим различием можно разрешить многие споры судей вкуса о красоте, показав им, что один держится свободной, другой – привходящей красоты, первый выносит чистое, второй – примененное суждение вкуса.
§ 17. Об идеале красоты.Не может быть объективного правила вкуса, которое через понятия определяло бы, что прекрасно. Ибо всякое суждение из этого источника есть эстетическое, т. е. его определяющее основание есть чувство субъекта, а не понятие объекта. Искать принцип вкуса, который давал бы всеобщий критерий прекрасного через определенные понятия, – бесплодное усилие, потому что искомое невозможно и противоречиво само по себе. Всеобщая сообщаемость ощущения (удовольствия или неудовольствия), притом такая, которая имеет место без понятия, согласие, насколько возможно, всех времен и народов в этом чувстве при представлении некоторых предметов – вот эмпирический, хотя и слабый и едва достаточный для предположения критерий происхождения вкуса, подтвержденного примерами, из общего всем людям, хотя и глубоко скрытого основания согласия в оценке форм, под которыми им даются предметы.
Поэтому некоторые произведения вкуса считаются образцовыми, но не потому, что вкус можно приобрести, подражая другим. Ибо вкус должен быть собственной способностью; кто подражает образцу, показывает, насколько он его достигает, конечно, умение, но вкус – лишь постольку, поскольку он может сам судить об этом образце. Отсюда следует, что высший образец, первообраз вкуса, есть лишь идея, которую каждый должен произвести в себе самом и согласно которой он должен судить обо всем, что является объектом вкуса, примером суждения посредством вкуса, даже о вкусе каждого. Идея в собственном смысле означает понятие разума, а идеал – представление единичного существа, соответствующего идее. Поэтому первообраз вкуса, который, конечно, основывается на неопределенной идее разума о максимуме, но все же не может быть представлен через понятия, а лишь в единичном изображении, лучше назвать идеалом прекрасного, каковой мы, хотя и не владеем им, все же стремимся произвести в себе. Но это будет лишь идеал воображения именно потому, что он основывается не на понятиях, а на изображении, а способность изображения есть воображение. – Как же мы достигаем такого идеала красоты? A priori или эмпирически? Равным образом: какой род прекрасного способен иметь идеал?
Прежде всего следует заметить, что красота, для которой ищется идеал, должна быть не свободной, а фиксированной понятием объективной целесообразности, следовательно, она должна принадлежать не объекту вполне чистого, а отчасти интеллектуального суждения вкуса. То есть в каком роде оснований оценки должен находиться идеал, в том должна лежать в основе какая-то идея разума согласно определенным понятиям, a priori определяющая цель, от которой зависит внутренняя возможность объекта. Нельзя мыслить идеал прекрасного цветка, прекрасной мебели, прекрасного вида. Но и от красоты, связанной с определенными целями, например прекрасного жилища, прекрасного дерева, прекрасного сада и т. д., нельзя представить себе идеала; вероятно, потому, что цели недостаточно определены и фиксированы их понятием, следовательно, целесообразность почти так же свободна, как при свободной красоте. Лишь то, что имеет цель своего существования в себе самом, – человек, который может сам определять свои цели разумом или, если он должен брать их из внешнего восприятия, все же может сопоставлять их с существенными и всеобщими целями и тогда эстетически оценивать их согласие с ними, – лишь человек, следовательно, способен к идеалу красоты, равно как и человечество в его лице, как разумное существо, единственно способно к идеалу совершенства среди всех предметов в мире.
Но для этого требуется двоякое: во-первых, эстетическая нормальная идея, которая есть единичное созерцание (воображения), представляющее мерило оценки человека как принадлежащего к особому виду животных; во-вторых, идея разума, которая делает цели человечества, поскольку они не могут быть представлены чувственно, принципом оценки его облика, через который, как их действие в явлении, они обнаруживаются. Нормальная идея должна брать элементы для облика животного особого рода из опыта; но наибольшая целесообразность в строении облика, которая могла бы служить общим мерилом эстетической оценки каждого отдельного существа этого вида, образ, который как бы преднамеренно лежал в основе техники природы и которому соответствует лишь весь род в целом, но не отдельное существо, – этот образ лежит лишь в идее оценивающего, но она с ее пропорциями как эстетическая идея может быть вполне конкретно представлена в образцовом изображении. Чтобы сделать это сколько-нибудь понятным (ибо кто может полностью раскрыть тайну природы?), попробуем дать психологическое объяснение.
Следует заметить, что воображение не только способно – совершенно непостижимым для нас образом – иногда воспроизводить даже давно утраченные знаки для понятий, но и воссоздавать образ и форму предмета из неисчислимого множества объектов различного или даже одного и того же вида. Более того, когда душа обращается к сравнению, оно, по всей вероятности, действительно (хотя и недостаточно для осознания) умеет как бы накладывать один образ на другой и через совпадение многих образов одного вида выводить нечто среднее, служащее общим мерилом для всех.
Кто-то видел тысячу взрослых мужчин. Если он захочет судить о сравнительно оцениваемой нормальной величине, то (по моему мнению) воображение накладывает друг на друга большое число образов (возможно, все те тысячу). И если позволительно применить здесь аналогию оптического изображения, то в том пространстве, где большинство образов совпадает, и в пределах контура, где место освещено наиболее насыщенным цветом, становится узнаваемой средняя величина, одинаково удалённая по высоте и ширине от крайних границ самых больших и самых малых статур. И это – статура прекрасного мужчины.
То же самое можно было бы получить механически, измерив всех тысячу, сложив их высоты и ширины (и толщины) отдельно и разделив сумму на тысячу. Но воображение делает это посредством динамического эффекта, возникающего из многократного восприятия таких форм на орган внутреннего чувства.
Если подобным же образом искать для этого среднего человека среднюю голову, для неё – средний нос и так далее, то эта форма будет лежать в основе нормальной идеи прекрасного мужчины в той стране, где проводится это сравнение. Поэтому негр при таких эмпирических условиях неизбежно должен иметь иную нормальную идею красоты формы, чем белый, а китаец – иную, чем европеец. То же самое произошло бы с образцом прекрасной лошади или собаки (определённой породы).
Эта нормальная идея не выводится из пропорций, взятых из опыта как определённые правила; напротив, только благодаря ей впервые становятся возможными правила суждения. Это – колеблющийся между всеми отдельными, самыми разнообразными интуициями индивидов образ для всего рода, который природа положила в основу своих созданий в пределах одного вида, но, кажется, ни в одном отдельном случае не достигла его полностью.
Это отнюдь не полный первообраз красоты в данном роде, а лишь форма, составляющая необходимое условие всякой красоты, то есть правильность в изображении рода. Это, как называли знаменитого «Дорифора» Поликлета, правило (для этого могла бы служить и корова Мирона в своём роде). Именно поэтому она не может содержать ничего специфически характерного, иначе она не была бы нормальной идеей для рода. Её изображение нравится не благодаря красоте, а лишь потому, что оно не противоречит ни одному условию, при котором предмет этого рода может быть прекрасным. Изображение просто соответствует школьным требованиям.
От нормальной идеи прекрасного следует отличать его идеал, который, как уже указано, можно ожидать только в человеческом облике. В нём идеал состоит в выражении нравственного, без чего объект не мог бы нравиться всем и притом положительно (а не только отрицательно – в школьно-правильном изображении).
Видимое выражение нравственных идей, внутренне управляющих человеком, может быть взято только из опыта. Но чтобы сделать зримым их связь со всем тем, что наш разум соединяет с нравственно добрым в идее высшей целесообразности (доброту, чистоту, силу, спокойствие души и т. д. во внешних проявлениях как действиях внутреннего), требуются чистые идеи разума и великая сила воображения, объединённые в том, кто хочет лишь судить о них, а тем более в том, кто хочет их изображать.
Правильность такого идеала красоты доказывается тем, что он не допускает смешения чувственного возбуждения с удовольствием от своего объекта и тем не менее вызывает к нему большой интерес. Это доказывает, что суждение по такому масштабу никогда не может быть чисто эстетическим, а суждение по идеалу красоты – не просто суждение вкуса.
Определение прекрасного, выведенное из этого третьего момента.
Красота – это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нём без представления о цели.
Четвёртый момент. Суждения вкуса по способу удовольствия от предмета.
§ 18. Что такое способ суждения вкуса.О всяком представлении можно сказать, что оно (как познание) возможно связано с удовольствием. О приятном мы говорим, что оно действительно вызывает во мне удовольствие. О прекрасном же мы думаем, что оно необходимо связано с удовольствием.
Эта необходимость особого рода: не теоретическая объективная необходимость, при которой можно а priori знать, что каждый почувствует удовольствие от предмета, названного мною прекрасным; и не практическая, при которой через понятия чистого разумного воления, служащего правилом для свободных существ, это удовольствие есть необходимое следствие объективного закона и означает лишь то, что следует действовать определённым образом (без дальнейшей цели).
Она может быть названа только примерной, то есть необходимостью согласия всех с суждением, которое рассматривается как пример всеобщего правила, которое нельзя указать. Поскольку эстетическое суждение не есть объективное суждение познания, эта необходимость не может быть выведена из определённых понятий и потому не аподиктична. Тем более она не может быть выведена из всеобщности опыта (из полного единодушия суждений о красоте некоторого предмета).
Мало того что опыт едва ли может дать для этого достаточно подтверждений, на эмпирических суждениях нельзя основывать понятие необходимости.
§ 19. Субъективная необходимость, которую мы приписываем суждению вкуса, обусловлена.Суждение вкуса требует всеобщего согласия; и кто объявляет нечто прекрасным, хочет, чтобы каждый одобрил данный предмет и также назвал его прекрасным. Таким образом, долженствование в эстетическом суждении высказывается лишь условно, несмотря на все данные, требуемые для суждения.
Мы добиваемся согласия каждого другого, потому что имеем для этого общее всем основание; на это согласие можно было бы рассчитывать, если бы только всегда можно было быть уверенным, что случай правильно подведён под это основание как правило одобрения.
§ 20. Условие необходимости, которую выдвигает суждение вкуса, – это идея общего чувства.Если бы суждения вкуса (как и суждения познания) имели определённое объективное принцип, то тот, кто выносит их согласно последнему, мог бы претендовать на безусловную необходимость своего суждения. Если бы они были вовсе без принципа, как суждения простого чувственного вкуса, то мысль об их необходимости не могла бы прийти в голову.
Следовательно, у них должен быть субъективный принцип, который только через чувство, а не через понятия, но всеобщезначимо определяет, что нравится или не нравится. Такой принцип, однако, можно рассматривать только как общее чувство, существенно отличное от здравого смысла, который иногда также называют общим чувством (sensus communis): последний судит не по чувству, а всегда по понятиям, хотя обычно лишь по смутно представляемым принципам.
Таким образом, только при допущении, что существует общее чувство (под которым мы понимаем не внешнее чувство, а действие свободной игры наших познавательных способностей), только при допущении, говорю я, такого общего чувства может быть вынесено суждение вкуса.
§ 21. Можно ли с основанием предполагать общее чувство.Познания и суждения вместе с убеждением, их сопровождающим, должны допускать всеобщее сообщение; иначе им не соответствовал бы объект: они были бы лишь субъективной игрой способностей представления, как того требует скептицизм.
Но если познания должны поддаваться сообщению, то и состояние духа, то есть настроение познавательных способностей для познания вообще, и притом та пропорция, которая подходит для представления (которым нам дан предмет), чтобы из него возникло познание, должны допускать всеобщее сообщение. Без этого как субъективного условия познания познание как действие не могло бы возникть.
Это действительно происходит всякий раз, когда данный предмет через посредство чувств приводит воображение к составлению многообразия, а его – рассудок к единству этого многообразия в понятиях. Однако это настроение познавательных способностей имеет различную пропорцию в зависимости от различия даваемых объектов.
Тем не менее должна быть одна, в которой это внутреннее отношение для оживления (одного другим) наиболее благоприятно для обеих душевных способностей в отношении познания (данных предметов) вообще; и это настроение не может быть определено иначе, как через чувство (а не по понятиям).
Поскольку это настроение само должно допускать всеобщее сообщение, а следовательно, и чувство его (при данном представлении), а всеобщая сообщаемость чувства предполагает общее чувство, то последнее может быть предположено с основанием. Причём без опоры на психологические наблюдения, а как необходимое условие всеобщей сообщаемости нашего познания, которое должно предполагаться во всякой логике и во всяком принципе познаний, не являющемся скептическим.
§ 22. Необходимость всеобщего согласия, мыслимая в суждении вкуса, есть субъективная необходимость, которая под предположением общего чувства представляется как объективнаяВо всех суждениях, которыми мы объявляем нечто прекрасным, мы не допускаем иного мнения, хотя и основываем наше суждение не на понятиях, а только на нашем чувстве, которое мы поэтому полагаем в основу не как частное чувство, а как общее.
Это общее чувство не может для этой цели основываться на опыте, ибо оно притязает на то, чтобы уполномочивать на суждения, содержащие долженствование. Оно говорит не то, что каждый согласится с нашим суждением, а то, что должен согласиться.
Следовательно, общее чувство, суждение которого я здесь привожу как пример своего суждения вкуса и которому поэтому приписываю примерную значимость, есть лишь идеальная норма. При её предположении можно было бы с правом сделать правилом для каждого суждение, согласующееся с нею, и выраженное в нём удовольствие от предмета.
Ибо принцип, хотя и только субъективный, но принятый как субъективно-всеобщий (как необходимая для каждого идея), мог бы требовать всеобщего согласия, подобно объективному, в отношении согласия различных судящих, если бы только можно было быть уверенным, что под него правильно подведено.
Эта неопределённая норма общего чувства действительно предполагается нами: это доказывает наша притязательность выносить суждения вкуса.
Есть ли в действительности такое общее чувство как конститутивный принцип возможности опыта, или более высокий принцип разума делает его для нас лишь регулятивным принципом, чтобы в нас впервые породить общее чувство для высших целей; является ли вкус первоначальным и природным или только идеей ещё предстоящего приобрести искусственного умения, так что суждение вкуса с его притязанием на всеобщее согласие в действительности есть лишь требование разума породить такое согласие образа мыслей, а долженствование, то есть объективная необходимость слияния чувства каждого с чувством всякого другого, означает лишь возможность этого согласия, и суждение вкуса лишь приводит пример применения этого принципа, – всё это мы здесь не хотим и не можем исследовать, а должны пока лишь разложить способность вкуса на её элементы и в конце объединить их в идее общего чувства.









