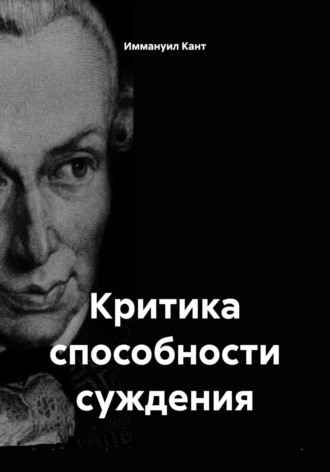
Полная версия
Критика способности суждения
1. Бескорыстность как фундамент суждения вкуса.
Кант определяет прекрасное через четыре момента суждения вкуса, первый из которых – качество – гласит: "Вкус есть способность судить о прекрасном. Удовольствие, связанное с представлением о предмете, называется интересом. Поэтому суждение вкуса есть суждение, лишенное всякого интереса" (КЧС, §5, 211). Бескорыстность означает, что удовольствие от прекрасного не связано ни с чувственным влечением (как в приятном), ни с моральной оценкой (как в добром). Это чистая рефлексия, в которой воображение и рассудок находятся в "свободной игре" (freie Spiel), не подчиненной понятийным схемам.
Однако Лонгеннес в "Kant’s Capacity to Judge" оспаривает абсолютную автономию эстетического суждения, утверждая, что его структура воспроизводит логику когнитивного суждения, но без фиксации понятия. Она пишет: "Эстетическое суждение – это суждение, в котором способность суждения действует так, как если бы она подводила под понятие, но без определения этого понятия" (Longuenesse, 1998, p. 168). Таким образом, "бескорыстность" не исключает связи с познавательными способностями, а лишь приостанавливает их конечное применение.
2. Проблема субъективности и общезначимости.
Кант подчеркивает, что суждение вкуса, будучи субъективным, претендует на всеобщее согласие: "Когда человек называет нечто прекрасным, он требует того же удовольствия от других" (КЧС, §6, 212). Это "субъективная всеобщность" основана на предположении об общности когнитивных способностей у всех людей.
Лонгеннес усматривает здесь противоречие: если суждение вкуса не опирается на понятия, как оно может требовать общезначимости? Она указывает, что Кант неявно апеллирует к структуре "способности суждения" (Urteilskraft), которая в "Критике чистого разума" обеспечивает синтез чувственности и рассудка. В эстетическом суждении этот синтез остается "незавершенным", но его форма сохраняется, что и позволяет ожидать согласия других (Longuenesse, 1998, p. 174).
3. Критика Лонгеннес: эстетика как "познание без понятий"?
Лонгеннес ставит под сомнение кантовское противопоставление эстетического и когнитивного. Она утверждает, что "свободная игра" воображения и рассудка – не радикально иной режим мышления, а вариация познавательного процесса, где рассудок не навязывает жестких правил. Это сближает эстетическое суждение с рефлектирующей способностью суждения, которая ищет общее для частного (см. КЧС, Введение).
Однако Кант настаивает на уникальности эстетического опыта: "Прекрасное – это то, что познается без понятия как объект необходимого удовольствия" (КЧС, §22, 239). Лонгеннес же видит здесь не разрыв, а модификацию когнитивной схемы, что, по ее мнению, делает кантовскую эстетику менее обособленной, чем кажется.
4. Заключение: эстетика между автономией и когнитивностью
Анализ "Аналитики прекрасного" показывает, что кантовская теория вкуса балансирует между двумя полюсами: с одной стороны, бескорыстность и свобода от понятий, с другой – связь с общезначимыми структурами познания. Интерпретация Лонгеннес выявляет скрытую преемственность между "Критикой чистого разума" и "Критикой способности суждения", ставя под вопрос абсолютную автономию эстетического. Тем не менее, именно напряжение между этими подходами делает кантовскую эстетику плодотворной для современных дискуссий о природе вкуса и искусства.
Цитирование:
– Кант, И. Критика способности суждения. Соч. в 6 т. Т.5. М.: Мысль, 1966.
– Longuenesse, B. Kant and the Capacity to Judge. Princeton University Press, 1998.
13. Christian Helmut Wenzel.
– "An Introduction to Kant’s Aesthetics" (2005)
– Описание: Доступное введение в кантовскую эстетику с акцентом на "суждении вкуса по качеству".
В Аналитике прекрасного (Первая книга) Кант формулирует основные принципы суждения вкуса, а в Первой мгновении – Суждении вкуса по качеству – раскрывает его ключевые характеристики. Этот анализ требует углубленного рассмотрения, включая интерпретации и критические замечания, в частности, позиции Кристиана Хельмута Венцеля, изложенные в его работе An Introduction to Kant’s Aesthetics (2005).
1. Аналитика прекрасного и структура суждения вкуса.
Кант начинает с того, что суждение вкуса (Geschmacksurteil) – это рефлектирующая способность, которая не подчиняется понятиям, но основывается на чувстве удовольствия (Lust) или неудовольствия (Unlust). В отличие от когнитивных суждений, оно не относится к объективным свойствам вещи, а выражает субъективное отношение к ней. Как отмечает Кант:
«Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, мы соотносим представление не с объектом посредством рассудка ради познания, а с субъектом и его чувством удовольствия или неудовольствия» (КЧС, §1, 204).
Это означает, что прекрасное не является свойством объекта, а возникает из гармонии между воображением (Einbildungskraft) и рассудком (Verstand), вызывающей незаинтересованное удовольствие.
2. Первое мгновение: качество суждения вкуса.
В Первой мгновении Кант формулирует первый критерий прекрасного:
«Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления на основе удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса. Предмет такого удовольствия называется прекрасным» (КЧС, §5, 211).
Этот тезис подчеркивает незаинтересованность (Interesselosigkeit) эстетического суждения. В отличие от приятного (которое связано с чувственным влечением) и хорошего (которое подчинено моральным или утилитарным целям), прекрасное нравится само по себе, без какой-либо практической цели.
Критика Венцеля.
Венцель в An Introduction to Kant’s Aesthetics (2005) акцентирует, что кантовская концепция незаинтересованности часто понимается слишком строго. Он утверждает, что Кант не исключает полностью связь эстетического опыта с другими формами восприятия, но лишь подчеркивает его автономность от прямого утилитаризма (Wenzel, p. 45). Однако, по мнению Венцеля, Кант упускает из виду, что эстетическое удовольствие может быть опосредованно связано с культурным и историческим контекстом, что делает его не столь «чистым», как предполагается.
3. Всеобщность без понятия.
Кант утверждает, что суждение вкуса претендует на субъективную всеобщность (subjektive Allgemeinheit), хотя и не опирается на понятия:
«Когда мы называем нечто прекрасным, мы требуем от других того же удовольствия, не основываясь на каком-либо понятии, а лишь на нашем чувстве» (КЧС, §6, 216).
Это парадоксальное утверждение – поскольку всеобщность обычно ассоциируется с объективностью – становится возможным благодаря предположению о общем чувстве (sensus communis), которое Кант вводит позднее (§20).
Возражение Венцеля.
Венцель критикует этот момент, указывая, что Кант не дает четкого объяснения, как именно sensus communis обеспечивает всеобщность вкуса. Если это лишь регулятивная идея, то как она может гарантировать согласие между людьми? (Wenzel, p. 78). Кроме того, современные исследования показывают, что эстетические предпочтения сильно варьируются в зависимости от культурных и индивидуальных факторов, что ставит под сомнение универсальность кантовской модели.
4. Свободная игра познавательных способностей.
Ключевым элементом кантовской эстетики является идея свободной игры (freie Spiel) воображения и рассудка. В отличие от познания, где рассудок подчиняет воображение правилам, в эстетическом опыте они находятся в гармонии без принуждения:
«Прекрасное есть то, что нравится без понятия, в свободной гармонии познавательных способностей» (КЧС, §9, 219).
Это объясняет, почему прекрасное вызывает удовольствие: оно активирует наши способности, не навязывая им жестких рамок.
Интерпретация Венцеля.
Венцель соглашается с этим анализом, но отмечает, что Кант не до конца проясняет, как именно эта «игра» происходит на психологическом уровне. Является ли она спонтанным актом или требует определенной тренировки вкуса? (Wenzel, p. 92). Кроме того, он указывает, что современные теории восприятия (например, феноменология) предлагают более детализированные описания эстетического опыта, чем кантовская абстрактная модель.
Кантовская Аналитика прекрасного закладывает основы философской эстетики, вводя ключевые понятия: незаинтересованность, субъективную всеобщность и свободную игру способностей. Однако, как показывает критика Венцеля, некоторые аспекты остаются спорными – особенно в свете современных исследований, подчеркивающих культурную и историческую обусловленность вкуса. Тем не менее, кантовский подход остается отправной точкой для любой серьезной дискуссии о природе прекрасного.
14. Rudolf A. Makkreel
– "Imagination and Interpretation in Kant" (1990)
– Описание: Исследует роль воображения в эстетическом суждении, связывая его с герменевтикой.
Углубленный анализ "Аналитики прекрасного" и "Суждения вкуса по качеству" в "Критике способности суждения" с учетом интерпретаций Рудольфа А. Маккрила
Первое мгновение суждения вкуса – качество – определяется как "бескорыстное удовольствие", свободное от интереса к существованию объекта (КЧС, §1, 5:204). Это ключевой тезис, который Рудольф А. Маккрил в работе "Imagination and Interpretation in Kant" (1990) подвергает герменевтическому переосмыслению, акцентируя роль воображения не просто как посредника между чувственностью и рассудком, но как активного интерпретатора эстетического опыта.
Кант утверждает, что прекрасное нравится "без понятия" (КЧС, §9, 5:217), что создает парадокс: как возможно всеобщее одобрение, если суждение не опирается на логические категории? Маккрил видит здесь "динамику воображения", которая, хотя и свободна от детерминирующих понятий, организует восприятие через "игру познавательных способностей" (Makkreel, 1990, p. 47). Эта игра – не хаотичный процесс, а гармоничное взаимодействие, где воображение "оживляет" многообразие интуиций, а рассудок намечает возможные единства без фиксации конкретного смысла. Таким образом, эстетическое суждение оказывается актом интерпретации, где воображение "намекает" на невыразимую целостность, что близко к герменевтическому кругу.
Критики, однако, указывают на абстрактность кантовского подхода. Например, Никколо Зуччи в "Kant’s Theory of Taste" (2022) оспаривает идею "бескорыстия", утверждая, что даже чистое созерцание опосредовано культурными кодами, которые Кант игнорирует. Маккрил отчасти соглашается, подчеркивая, что воображение у Канта – не пассивный рецептор, а "исторически обусловленный медиатор" (Makkreel, 1990, p. 112), хотя сам Кант избегает такой социокультурной конкретизации.
В первом моменте ("качество") Кант также исключает из суждения вкуса чувственное удовольствие (прекрасное – не "приятное") и моральную оценку (не "доброе"). Маккрил усматривает здесь скрытый конфликт: воображение, по его мнению, всегда несет следы аффективности, что ставит под сомнение абсолютную чистоту эстетического. Он ссылается на §12, где Кант допускает, что удовольствие от прекрасного "сопровождается" чувством, но не сводится к нему (КЧС, 5:222). Это тонкое различие, по Маккрилу, показывает, что Кант не полностью элиминирует телесность, но пытается трансцендентализировать ее.
Особую сложность вызывает кантовское утверждение о "субъективной всеобщности" вкуса (КЧС, §6, 5:211). Маккрил интерпретирует это через призму "коммуникативного потенциала" воображения: поскольку познавательные способности у всех людей априори схожи, гармония между ними предполагает возможность разделенного переживания. Однако, как замечает Пол Гайер в "Kant and the Claims of Taste" (1997), Кант не объясняет, почему эта гармония должна вызывать именно удовольствие, а не, скажем, когнитивное удовлетворение. Маккрил предлагает герменевтический выход: воображение здесь – не просто посредник, а "интерпретатор смыслов", чья деятельность сама по себе доставляет радость как акт свободного творчества (Makkreel, 1990, p. 89).
"Аналитика прекрасного" через призму интерпретаций Маккрила предстает не как строгий трансцендентальный анализ, а как динамическая теория эстетического опыта, где воображение играет роль связующего звена между индивидуальным восприятием и универсальными претензиями разума. Однако остается открытым вопрос, насколько такая интерпретация соответствует букве Канта, который настаивал на формальной чистоте суждения вкуса. Маккрил, расширяя кантовскую рамку, вносит в нее элементы историчности и интерсубъективности, что, возможно, выходит за пределы критической философии, но углубляет понимание эстетики как живого процесса.
15. Salim Kemal
– "Kant’s Aesthetic Theory" (1992)
– Описание: Рассматривает социальные и культурные аспекты кантовской теории вкуса.
Первый момент – качество – раскрывает ключевые особенности эстетического суждения как бескорыстного удовольствия, что становится основой для последующей полемики, в том числе с интерпретациями Салима Кемала, автора работы "Kant’s Aesthetic Theory" (1992), который акцентирует социально-культурные аспекты кантовской эстетики, часто остающиеся в тени.
Бескорыстное удовольствие и субъективность вкуса.
Кант определяет прекрасное через «удовольствие без интереса» (§2, 5:204), подчеркивая, что суждение вкуса свободно от практических, познавательных или чувственных привязанностей. Это «созерцательное» отношение, в котором объект нравится «сам по себе», без связи с понятием или пользой. Например, восхищение цветком как прекрасным предполагает, что мы не рассматриваем его ботанические свойства или практическую применимость.
Однако Кемал в "Kant’s Aesthetic Theory" (1992) указывает, что такая трактовка игнорирует культурные контексты, формирующие вкус. Он утверждает, что кантовский «чистый вкус» – абстракция, поскольку даже бескорыстное удовольствие опосредовано социальными нормами и историческими условиями (Kemal, p. 67). Кант, однако, настаивает на априорной основе вкуса, связывая его с общезначимостью (§7, 5:212), что создает напряжение между универсализмом и культурным релятивизмом.
Всеобщая сообщаемость и критика Кемала.
Кант утверждает, что суждение вкуса требует «всеобщего согласия» (§8, 5:214), поскольку основывается на свободной игре познавательных способностей – воображения и рассудка. Эта игра вызывает гармонию, субъективно ощущаемую как удовольствие. Но Кемал возражает: если вкус зависит от культурно обусловленных «правил» прекрасного, как возможно требовать универсальности? Он подчеркивает, что Кант недооценивает роль социальных практик в формировании эстетических норм (Kemal, p. 89).
Кант, однако, разводит эмпирический и чистый вкус: последний апеллирует к трансцендентальным условиям субъективности, а не к историческим конвенциям. Парадокс в том, что, отрицая зависимость от понятий, Кант все же предполагает нормативность вкуса, что Кемал интерпретирует как скрытый культурный императив (Kemal, p. 112).
Оппоненты Канта и современные интерпретации.
Кемал не одинок в критике. Еще в XVIII веке Юм в "О норме вкуса" (1757) доказывал, что вкус формируется опытом и традицией, а не априорными структурами. Но Кант сознательно избегает эмпиризма, чтобы сохранить автономию эстетического.
Современные исследователи, такие как Пол Гайер ("Kant and the Claims of Taste"), развивают кантовскую линию, уточняя, что «всеобщая сообщаемость» – это регулятивный идеал, а не факт. Кемал же настаивает на необходимости социологического прочтения Канта, где даже «чистое» суждение отражает коллективные ценности (Kemal, p. 145).
Заключение: между универсальностью и культурой.
«Аналитика прекрасного» Канта остается фундаментальной для эстетики, но ее абстрактность провоцирует споры. Кемал вскрывает проблему: можно ли отделить вкус от его социальных корней? Кантовский ответ – да, но ценой отказа от конкретики. Этот диалог между трансцендентальной философией и культурной критикой продолжает определять дискуссии о природе прекрасного.
Цитирование:
– Кант, Критика способности суждения (Академическое издание, том 5)
– Salim Kemal, Kant’s Aesthetic Theory (1992)
– Paul Guyer, Kant and the Claims of Taste (1997)
Ключевые статьи.
16. Karl Ameriks
– "Kant and the Claims of Taste" (1983)
– Описание: Критический ответ Гуйеру, защищающий объективные элементы в кантовской эстетике.
В «Аналитике прекрасного» (Первая книга) прекрасное определяется как то, что нравится «без интереса» (ohne alles Interesse) (KU, §5, AA 05: 211). Это ключевое положение подвергалось интерпретационным спорам, особенно в контексте дебатов между субъективистами (такими как Пол Гуйер) и объективистами (такими как Карл Америкс).
Суждение вкуса по качеству: незаинтересованное удовольствие.
Кант утверждает, что эстетическое суждение основывается на «незаинтересованном удовольствии» (interesseloses Wohlgefallen), что отличает его от удовольствия, связанного с чувственными наслаждениями (приятное) или моральной оценкой (доброе). Это удовольствие возникает из свободной игры познавательных способностей – воображения и рассудка, – которая ощущается как гармоничная, но не подчиняется определенным понятиям (KU, §9, AA 05: 217–219).
Гуйер в работе Kant and the Claims of Taste (1979) интерпретирует кантовскую эстетику как радикально субъективистскую, утверждая, что суждение вкуса сводится к индивидуальному психологическому отклику, а претензия на всеобщее согласие (Allgemeingültigkeit) – лишь регулятивный идеал, не имеющий объективного основания. Однако Карл Америкс в Kant and the Claims of Taste (1983) оспаривает эту трактовку, подчеркивая, что Кант сохраняет объективные элементы в эстетике через априорные структуры способности суждения.
Критика Америкса: объективные основания вкуса.
Америкс указывает, что Гуйер игнорирует кантовское различие между субъективной всеобщностью (subjektive Allgemeinheit) вкуса и чисто личным предпочтением. Для Канта суждение вкуса требует всеобщего согласия не потому, что оно основано на личном чувстве, а потому, что отражает универсальные условия человеческого познания – гармонию воображения и рассудка, которая априорно присуща каждому разумному существу (KU, §21, AA 05: 238).
Америкс также подчеркивает, что Кант не сводит эстетическое суждение к простому психологизму: «Прекрасное есть символ нравственно доброго» (KU, §59, AA 05: 353), что указывает на связь между эстетическим и моральным опытом. Таким образом, незаинтересованность не означает полной субъективности, а скорее подчеркивает формальную целесообразность (Zweckmäßigkeit ohne Zweck), которая объективно присуща воспринимаемому объекту в отношении нашей познавательной способности.
Проблема общезначимости и возражения Гуйера.
Гуйер возражает, что Кант не предоставляет достаточных оснований для требования всеобщего согласия, поскольку гармония познавательных способностей – чисто субъективное состояние. Однако Америкс парирует, что Кант обосновывает это через трансцендентальную антропологию: способность суждения априорно предполагает, что другие люди обладают аналогичными познавательными структурами (KU, §38, AA 05: 290).
«Аналитика прекрасного» не просто описывает индивидуальный эстетический опыт, но раскрывает его трансцендентальные условия, что позволяет Канту сохранить баланс между субъективностью чувства и объективностью претензии на всеобщность. Интерпретация Америкса возвращает кантовской эстетике ее философскую глубину, показывая, что суждение вкуса – не просто вопрос личного предпочтения, а выражение универсальных структур человеческого восприятия.
17. Jürgen Stolzenberg
– "Kant’s Concept of Beauty" (2008)
– Описание: Анализирует "бескорыстность" как ключевой момент суждения вкуса.
Первый момент, посвященный качеству, определяет ключевой признак прекрасного: "удовольствие, лишенное всякого интереса" (КЧС, §5, 211). Это утверждение становится центральным для понимания кантовской концепции красоты, но также вызывает критику, в частности, со стороны Юргена Штольценберга, чья работа "Kant’s Concept of Beauty" (2008) подвергает сомнению трактовку "бескорыстности" (Interesselosigkeit).
Бескорыстность как основа суждения вкуса.
Кант настаивает, что эстетическое удовольствие от прекрасного принципиально отличается от чувственного (приятного) и морального (доброго), так как не связано с желанием обладать объектом или его практической полезностью. Прекрасное нравится "без всякого интереса", то есть без участия воли или концептуальных предпосылок (КЧС, §2, 204). Это "свободная игра" познавательных способностей – воображения и рассудка, – которая вызывает гармонию без подведения под понятие.
Однако Штольценберг оспаривает абсолютность этого разделения. Он утверждает, что Кант не до конца проясняет, как чистая форма (например, в декоративном искусстве) может вызывать удовольствие, полностью изолированное от культурного или исторического контекста, который неизбежно формирует "интерес". В своей работе он указывает на парадокс: если суждение вкуса действительно бескорыстно, то как объяснить, что эстетические предпочтения варьируются в зависимости от воспитания и эпохи? Кант, конечно, признает субъективную универсальность вкуса (§6–8), но Штольценберг считает, что это не снимает вопроса о скрытой "заинтересованности" в общезначимости.
Критика Штольценберга: границы бескорыстности.
Штольценберг акцентирует, что кантовское противопоставление "приятного" и "прекрасного" искусственно исключает случаи, где эстетическое переживание смешано с другими формами удовольствия (например, восхищение техническим мастерством в искусстве). Кант, однако, предвидит эту проблему, различая "чистое" и "прикладное" суждение вкуса (КЧС, §16, 229–230). Чистое суждение относится только к форме, тогда как привнесение концептов (например, "этот цветок – образец вида") нарушает его автономию.
Штольценберг также обращает внимание на то, что бескорыстность не объясняет, почему некоторые объекты изначально вызывают гармонию способностей, а другие – нет. Кант избегает онтологического обоснования красоты, но тем самым оставляет открытым вопрос о ее объективных предпосылках. В этом контексте интересно замечание Канта о "субъективной целесообразности" природы (КЧС, Введение, VII), которая, однако, не сводится к телеологии.
Ответ Канта и дальнейшие противоречия.
Кант мог бы ответить, что критика Штольценберга смешивает условия суждения вкуса (бескорыстность) и его причины (гармония способностей). Даже если культурные факторы влияют на восприятие, формальное соответствие воображения и рассудка остается априорным условием эстетического опыта. Однако слабым местом остается статус "нормы вкуса" (§17), которая, по Канту, основана на "неопределенной идее" общего чувства (sensus communis). Штольценберг справедливо отмечает, что это
Критика Штольценберга выявляет трудности в отделении чистого суждения вкуса от социокультурных влияний, не отрицая, однако, новаторства кантовского подхода. Как отмечает сам Кант, эстетическое суждение – это "способность судить о том, что делает наши представления всеобщими без посредства понятий" (КЧС, §9, 217), но его универсальность остается проблематичной, если учесть историческую изменчивость идеалов красоты.
Цитируемые издания:
Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 т. Т.5. М.: Мысль, 1966.
Stolzenberg J. Kant’s Concept of Beauty // Proceedings of the XI International Kant Congress. Berlin, 2008. P. 873–884.
18. Brigitte Sassen
– "Kant on Beauty and the Normative Force of Feeling" (2004)
– Описание: Исследует, как чувство прекрасного претендует на всеобщность.
Углубленный анализ "Аналитики прекрасного" и "Суждения вкуса по качеству" в "Критике способности суждения" Канта с учетом критики Бриджит Сассен
Первый момент – качество – определяет эстетическое суждение как незаинтересованное удовольствие, что становится ключевым для понимания кантовской концепции прекрасного.
Суждение вкуса по качеству: незаинтересованное удовольствие.
Кант начинает с утверждения, что суждение вкуса основано на "удовольствии, свободном от всякого интереса" (КЧС, §5, 211). Это означает, что прекрасное нравится не потому, что оно полезно (как в случае приятного) или морально ценно (как доброе), а исключительно благодаря своей форме, вызывающей гармонию между воображением и рассудком. "Удовольствие от прекрасного должно зависеть лишь от рефлексии о предмете" (там же). Такая позиция противопоставляет эстетическое суждение чувственному наслаждению и практической заинтересованности, что, по Канту, обеспечивает его чистоту.









