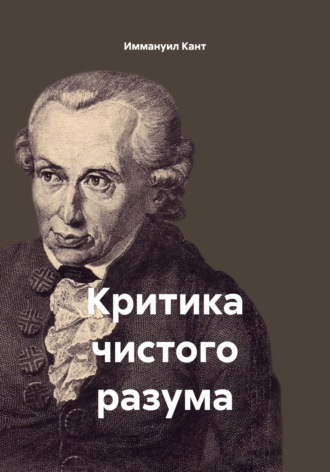
Полная версия
Критика чистого разума
Поскольку трансцендентальная аналитика, собственно, должна быть лишь каноном для оценки эмпирического применения, она злоупотребляется, когда рассматривается как органон всеобщего и неограниченного употребления, и когда чистый рассудок отваживается синтетически судить, утверждать и решать о предметах вообще. В таком случае применение чистого рассудка становится диалектическим.
Следовательно, вторая часть трансцендентальной логики должна представлять собой критику этой диалектической видимости и называется трансцендентальной диалектикой – не как искусство догматически создавать подобные видимости (к сожалению, весьма распространённое искусство среди многообразных метафизических фокусов), а как критика рассудка и разума в отношении их сверхфизического применения, чтобы раскрыть ложный блеск их необоснованных притязаний и низвести их претензии на изобретение и расширение (которые они надеются достичь лишь посредством трансцендентальных принципов) до оценки и защиты чистого рассудка от софистических иллюзий.
Отдел первый. Трансцендентальная аналитика.
Эта аналитика представляет собой расчленение всего нашего априорного знания на элементы чистого рассудочного познания. Здесь важно следующее:
1. Понятия должны быть чистыми, а не эмпирическими.
2. Они должны относиться не к созерцанию и чувственности, а к мышлению и рассудку.
3. Они должны быть элементарными понятиями и четко отличаться от производных или составных.
4. Их таблица должна быть полной и полностью охватывать всю сферу чистого рассудка.
Однако полноту науки нельзя достоверно установить путем простого подсчета или случайного накопления данных. Поэтому она возможна только через идею целого априорного рассудочного знания и через определенное разделение понятий, его составляющих, то есть только через их связь в системе.
Чистый рассудок не только отделяет себя от всего эмпирического, но и полностью отстраняется от всякой чувственности. Он представляет собой самостоятельное, самодостаточное единство, которое нельзя расширить за счет внешних добавлений. Поэтому совокупность его познаний образует систему, охватываемую и определяемую одной идеей, чья полнота и структура могут служить критерием правильности и подлинности всех входящих в нее элементов познания.
Весь этот раздел трансцендентальной логики состоит из двух книг:
– первая содержит понятия,
– вторая – основоположения чистого рассудка.
Книга первая. Аналитика понятий.Под аналитикой понятий я понимаю не их анализ (то есть обычный в философских исследованиях метод разбирать предлагаемые понятия по содержанию для достижения ясности), а еще мало исследованное расчленение самой способности рассудка, чтобы изучить возможность априорных понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как их источнике и анализируя чистый рассудочный способ применения вообще. Это и есть собственная задача трансцендентальной философии; все остальное – логическая обработка понятий в философии вообще.
Таким образом, мы проследим чистые понятия вплоть до их первых зачатков и задатков в человеческом рассудке, где они заложены заранее, пока наконец при случае опыта не развиваются и тем же самым рассудком, освобожденные от сопутствующих им эмпирических условий, не представляются в своей чистоте.
Глава первая. О путеводной нити открытия всех чистых рассудочных понятий.
Когда приводят в действие познавательную способность, то при различных обстоятельствах проявляются разнообразные понятия, которые характеризуют эту способность и могут быть собраны в более или менее подробном изложении – в зависимости от того, как долго или с какой проницательностью их наблюдали. Однако при таком, так сказать, механическом подходе невозможно с уверенностью определить, когда это исследование будет завершено. Кроме того, понятия, найденные лишь случайно, не обнаруживаются в каком-либо порядке или систематическом единстве, а в конце концов лишь группируются по сходству и выстраиваются в ряды – от простых к более сложным – по объему их содержания, что далеко не систематично, хотя и осуществляется до некоторой степени методично.
Трансцендентальная философия имеет преимущество, но и обязанность отыскивать свои понятия согласно принципу, поскольку они возникают из рассудка как абсолютного единства чисто и без примесей и потому сами должны быть связаны между собой согласно понятию или идее. Такой связь дает правило, по которому можно априори определить место каждого чистого рассудочного понятия и полноту их всех в целом, – иначе это зависело бы от произвола или случая.
Трансцендентальный способ открытия всех чистых рассудочных понятий. Раздел первый. О логическом применении рассудка вообще.Ранее рассудок объяснялся лишь отрицательно: как нечувственная познавательная способность. Но независимо от чувственности мы не можем обладать никаким созерцанием. Следовательно, рассудок – не способность созерцания. Однако, кроме созерцания, нет иного способа познания, кроме как через понятия. Поэтому познание всякого, по крайней мере человеческого, рассудка есть познание через понятия – не интуитивное, а дискурсивное.
Все созерцания, как чувственные, основываются на восприимчивости (аффицировании), понятия же – на функциях. Под функцией я понимаю единство действия, подводящего различные представления под одно общее. Таким образом, понятия основываются на спонтанности мышления, подобно тому как чувственные созерцания – на восприимчивости впечатлений.
Рассудок не может делать иного применения этих понятий, кроме как судить с их помощью. Поскольку ни одно представление не относится к предмету непосредственно, кроме созерцания, то понятие никогда не относится к предмету прямо, а всегда к какому-то другому представлению о нем (будь то созерцание или уже само понятие). Следовательно, суждение есть опосредованное познание предмета, то есть представление о представлении его.
В каждом суждении есть понятие, имеющее значение для многого, и среди этого многого оно охватывает также данное представление, которое затем прямо относится к предмету. Например, в суждении «Все тела изменчивы» понятие делимости относится к различным другим понятиям, но здесь оно относится особенно к понятию тела, а то, в свою очередь, – к некоторым встречающимся нам явлениям. Таким образом, эти предметы представляются опосредованно через понятие делимости.
Следовательно, все суждения суть функции единства среди наших представлений, поскольку вместо непосредственного представления для познания предмета используется более высокое, охватывающее это и другие представления, и тем самым множество возможных познаний сводится в одно.
Но все действия рассудка можно свести к суждениям, так что рассудок вообще можно представить как способность судить. Ведь, согласно сказанному выше, он есть способность мыслить. Мышление есть познание через понятия. А понятия, как предикаты возможных суждений, относятся к какому-то представлению о еще не определенном предмете.
Так, понятие тела означает нечто (например, металл), что может быть познано через это понятие. Оно является понятием лишь потому, что под ним содержатся другие представления, посредством которых оно может относиться к предметам. Следовательно, оно есть предикат возможного суждения, например: «Всякий металл есть тело».
Таким образом, все функции рассудка можно найти, если полностью изложить функции единства в суждениях. Что это вполне осуществимо, покажет следующий раздел.
Раздел второй. § 9. О логической функции рассудка в суждениях
Если мы отвлечемся от всего содержания суждения вообще и обратим внимание лишь на голую рассудочную форму, то обнаружим, что функцию мышления в нем можно свести к четырем рубрикам, каждая из которых включает в себя три момента. Их удобно представить в следующей таблице:
1. Количество суждений
Общие
Частные
Единичные
2. Качество 3. Отношение
Утвердительные Категорические
Отрицательные Гипотетические
Бесконечные Разделительные
4. Модальность
Проблематические
Ассерторические
Аподиктические
Поскольку это деление в некоторых, хотя и несущественных, пунктах отклоняется от привычной техники логиков, следующие разъяснения для предупреждения возможных недоразумений не будут излишними.
1.
Логики справедливо утверждают, что при использовании суждений в умозаключениях единичные суждения можно трактовать так же, как общие. Дело в том, что, поскольку они вовсе не имеют объема, их предикат нельзя отнести лишь к некоторой части того, что содержится в понятии субъекта, исключив другую. Поэтому он применим к этому понятию без исключения – как если бы оно было общезначимым понятием, обладающим объемом, в рамках которого предикат верен для всей его значимости.
Однако если мы сравним единичное суждение с общезначимым исключительно как знание, учитывая его величину, то их соотношение будет подобно соотношению единицы и бесконечности, а значит, они существенно различны сами по себе. Следовательно, если я оцениваю единичное суждение (judicium singulare) не только по его внутренней значимости, но и как знание вообще, учитывая его величину в сравнении с другими знаниями, то оно, безусловно, отличается от общезначимых суждений (judicia communia) и заслуживает особого места в полной таблице моментов мышления вообще (хотя, конечно, не в логике, ограниченной лишь взаимным употреблением суждений).
2.
Точно так же в трансцендентальной логике бесконечные суждения необходимо отличать от утвердительных, даже если в общей логике они справедливо причисляются к последним и не составляют отдельного элемента деления. Общая логика абстрагируется от всего содержания предиката (даже если он отрицателен) и учитывает только, приписывается ли он субъекту или противопоставляется ему. Трансцендентальная же логика рассматривает суждение также с точки зрения ценности или содержания этой логической утвердительности, достигаемой посредством чисто отрицательного предиката, и того, какой вклад это вносит в знание в целом.
Если бы я сказал о душе: «Она не смертна», – то этим отрицательным суждением я, по крайней мере, предотвратил бы ошибку. Но в суждении «Душа есть нечто бессмертное» я, по форме, действительно утверждаю, помещая душу в неограниченный объем бессмертных существ. Поскольку в полном объеме возможных существ смертное составляет одну часть, а бессмертное – другую, мое суждение означает лишь, что душа есть одно из бесконечного множества вещей, остающихся, если я исключу все смертное. Тем самым бесконечная сфера всего возможного лишь ограничивается: смертное отделяется от нее, а душа помещается в оставшийся объем. Однако даже после этого исключения данный объем остается бесконечным, и из него можно изъять еще множество частей, не делая при этом понятие души ничуть более определенным или утвердительным.
Таким образом, бесконечные суждения с точки зрения логического объема действительно лишь ограничивают, но с точки зрения содержания знания вообще они значимы. Поэтому их нельзя упускать в трансцендентальной таблице всех моментов мышления в суждениях, поскольку выполняемая здесь функция рассудка может быть важна в сфере его чистого априорного познания.
3.
Все отношения мышления в суждениях сводятся к следующим:
a) отношение предиката к субъекту,
b) отношение основания к следствию,
c) отношение разделенного знания и собранных членов деления между собой.
В суждениях первого рода рассматривается соотношение только двух понятий, во втором – двух суждений, в третьем – нескольких суждений друг к другу.
Гипотетическое суждение: «Если существует совершенная справедливость, то упорно злой будет наказан» – фактически содержит отношение двух суждений:
1. «Существует совершенная справедливость»,
2. «Упорно злой будет наказан».
Здесь не решается, истинны ли эти суждения сами по себе; в данном случае мыслится лишь их логическая связь.
Наконец, разделительное суждение выражает отношение двух или более суждений друг к другу – но не последовательности, а логической противоположности, поскольку сфера одного исключает сферу другого, однако в то же время подразумевает их общность, поскольку они вместе заполняют сферу подлинного знания. Таким образом, это отношение частей сферы знания, где сфера каждой части является дополнением сферы другой части к целому разделенному знанию.
Например:
«Мир существует либо по слепой случайности, либо по внутренней необходимости, либо по внешней причине».
Каждое из этих суждений занимает часть сферы возможного знания о существовании мира вообще, а все вместе они исчерпывают всю сферу. Исключить знание из одной из этих сфер – значит поместить его в одну из остальных, и наоборот.
Таким образом, в разделительном суждении присутствует определенная общность знаний, состоящая в том, что они взаимно исключают друг друга, но тем самым в совокупности определяют истинное знание, поскольку вместе составляют все содержание данного единого знания.
Это все, что я счел необходимым отметить здесь для дальнейшего изложения.
4. Модальность суждений.
Модальность суждений – это совершенно особая функция, которая отличается тем, что не добавляет ничего к содержанию суждения (поскольку кроме количества, качества и отношения больше ничего не составляет содержания суждения), а касается лишь значения связки («есть» / «не есть») по отношению к мышлению вообще.
– Проблематические суждения – те, в которых утверждение или отрицание принимается как лишь возможное (произвольное).
– Ассерторические – те, где оно рассматривается как действительное (истинное).
– Аподиктические – те, в которых оно считается необходимым.
Так, два суждения, образующие гипотетическое суждение (антецедент и консеквент), а также члены разделительного суждения (части деления), сами по себе являются лишь проблематическими. Например, в суждении «Если существует совершенная справедливость, то упорный злодей будет наказан» – первая часть («есть совершенная справедливость») высказана не ассерторически, а лишь как произвольное допущение, которое кто-то может принять; лишь вывод (консеквент) утверждается как истинный.
Поэтому такие суждения могут быть даже заведомо ложными, но, взятые проблематически, служат условиями познания истины. Например, суждение «Мир существует по слепой случайности» в разделительном рассуждении имеет лишь проблематический смысл – как если бы кто-то временно допустил эту мысль, – но оно помогает (как указание на ложный путь среди многих возможных) найти истинный.
– Проблематическое суждение выражает лишь логическую возможность (не объективную), то есть свободу принять такое суждение, произвольное включение его в рассудок.
– Ассерторическое говорит о логической действительности или истине – как, например, в гипотетическом умозаключении: антецедент в большей посылке проблематичен, а в меньшей – ассерторичен, показывая, что суждение уже связано с рассудком по его законам.
– Аподиктическое суждение мыслит ассерторическое как определяемое самими законами рассудка, а потому утверждает его априорно и выражает логическую необходимость.
Поскольку всё здесь постепенно усваивается рассудком (сначала проблематически, затем как истинное, наконец – как необходимое), эти три функции модальности можно назвать моментами мышления вообще.
Как если бы в первом случае мышление было функцией рассудка, во втором – способности суждения, в третьем – разума. Это замечание получит объяснение далее.
Руководство к открытию всех чистых рассудочных понятий. Раздел третий.
§ 10. О чистых рассудочных понятиях, или категориях.Как уже не раз говорилось, общая логика абстрагируется от всякого содержания познания и ожидает, что представления будут даны ей откуда-то ещё, чтобы преобразовать их в понятия (что происходит аналитически). Напротив, трансцендентальная логика имеет перед собой априорное многообразие чувственности (данное ей трансцендентальной эстетикой) – материал для чистых рассудочных понятий, без которого она была бы лишена содержания и совершенно пуста.
Пространство и время содержат априорное многообразие чистого созерцания, но также относятся к условиям восприимчивости нашей души, при которых только и возможны представления о предметах. Однако спонтанность нашего мышления требует, чтобы это многообразие было так или иначе пройдено, воспринято и соединено для создания познания. Это действие я называю синтезом.
Под синтезом в самом широком смысле я понимаю действие соединения различных представлений и охватывания их многообразия в едином познании. Такой синтез чист, если многообразие дано не эмпирически, а априори (как в пространстве и времени).
Прежде всякого анализа представлений они должны быть даны, и никакие понятия не могут возникнуть аналитически по содержанию. Синтез же (будь то эмпирический или априорный) впервые порождает познание – пусть сначала грубое и смутное (требующее анализа), но именно синтез собирает элементы познания и объединяет их в содержание. Поэтому он – первое, на что надо обратить внимание, исследуя происхождение познания.
Синтез вообще (как будет показано далее) – это результат воображения, слепой, но необходимой функции души, без которой не было бы никакого познания, хотя мы редко осознаём её. Однако приведение синтеза к понятиям – это функция рассудка, благодаря которой познание обретает свой подлинный смысл.
Чистый синтез, представленный всеобщим образом, даёт чистое рассудочное понятие. Здесь я имею в виду синтез, основанный на априорном синтетическом единстве. Например, счёт (особенно в больших числах) – это синтез по понятиям, так как он опирается на общее основание единства (например, десятичную систему).
– Аналитически различные представления подводятся под одно понятие (этим занимается общая логика).
– Но трансцендентальная логика учит, как приводить не сами представления, а их чистый синтез к понятиям.
Этапы познания объекта a priori:
1. Данное нам многообразие чистого созерцания.
2. Синтез этого многообразия через воображение (но это ещё не познание).
3. Понятия, придающие этому синтезу единство и выражающие необходимую синтетическую связь – они, опираясь на рассудок, завершают познание объекта.
Единство функции в суждении и созерцании:
Та же самая функция, которая придает единство различным представлениям в суждении, придает единство их синтезу в созерцании. Выраженная всеобщим образом, она называется чистым рассудочным понятием.
Таким образом, один и тот же рассудок – и теми же самыми действиями, которыми он создаёт логическую форму суждения (через аналитическое единство в понятиях), – через синтетическое единство многообразия в созерцании вносит в свои представления трансцендентальное содержание. Поэтому эти понятия называются чистыми рассудочными понятиями (категориями), которые a priori относятся к объектам – чего не может сделать общая логика.
Таким образом возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, a priori относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было логических функций во всех возможных суждениях: ибо рассудок полностью исчерпывается указанными функциями, и тем самым полностью измеряется его способность. Мы будем называть эти понятия, следуя Аристотелю, категориями, так как наше первоначальное намерение хотя и совпадает с его намерением, но в исполнении весьма от него отдаляется.
Таблица категорий
1. Количества:
Единство
Множество
Всеобщность
2. Качества:
Реальность
Отрицание
Ограничение
3. Отношения:
Присущность и самостоятельность (субстанция и акциденция)
Причинность и зависимость (причина и действие)
Общение (взаимодействие между действующим и претерпевающим)
4. Модальности:
Возможность – невозможность
Существование – несуществование
Необходимость – случайность
Вот перечень всех первоначальных чистых понятий синтеза, которые рассудок a priori содержит в себе и благодаря которым он только и является чистым рассудком; ибо только посредством них он может что-то понимать в многообразии созерцания, т.е. мыслить объект этого созерцания. Это деление систематически выведено из общего принципа, а именно из способности суждения (которая равна способности мыслить), а не составлено рапсодически путем случайного поиска чистых понятий, о полноте которых никогда нельзя быть уверенным, поскольку она выводится лишь индуктивно, не говоря уже о том, что таким способом никогда нельзя понять, почему именно эти, а не другие понятия принадлежат чистому рассудку.
Достойной проницательного ума была попытка Аристотеля отыскать эти основные понятия. Но так как у него не было принципа, он собирал их, как они ему попадались, и сначала набрал десять, которые назвал категориями (предикаментами). Позже он считал, что нашел еще пять, и добавил их под именем постпредикаментов. Однако его таблица оставалась несовершенной. Кроме того, в ней встречаются модусы чистой чувственности (quando, ubi, situs, а также prius, simul), а также эмпирический модус (motus), которые вовсе не относятся к этому родовому перечню рассудка, или же производные понятия включены в число первоначальных (actio, passio), а некоторые из последних вовсе отсутствуют.
Поэтому относительно последних следует заметить, что категории, как истинные родовые понятия чистого рассудка, имеют столь же чистые производные понятия, которые ни в коем случае не могут быть опущены в полной системе трансцендентальной философии, но в чисто критическом опыте я могу ограничиться лишь их упоминанием.
Позвольте мне назвать эти чистые, но производные рассудочные понятия предикабилиями чистого рассудка (в противоположность предикаментам). Если иметь первоначальные и примитивные понятия, то производные и подчиненные легко добавить, и можно полностью изобразить генеалогию чистого рассудка. Поскольку здесь меня интересует не полнота системы, а лишь принципы для системы, я откладываю это дополнение для другого труда. Однако эту цель можно довольно хорошо достичь, если взять учебники онтологии и подчинить, например, категории причинности предикабилии силы, действия, страдания; категории общения – предикабилии присутствия, сопротивления; предикаментам модальности – предикабилии возникновения, исчезновения, изменения и т.д.
Соединение категорий с модусами чистой чувственности или друг с другом дает большое количество производных понятий a priori, отмечать которые и, если возможно, перечислять до полноты было бы полезным и не неприятным, но здесь излишним трудом.
Я умышленно воздерживаюсь в этом трактате от определений этих категорий, хотя, возможно, и имею их. Впоследствии я разберу эти понятия в той степени, которая достаточна в отношении разрабатываемой мной методологии. В системе чистого разума их можно было бы справедливо требовать от меня, но здесь они лишь отвлекли бы внимание от главного пункта исследования, вызывая сомнения и возражения, которые без ущерба для основной цели можно оставить для другого труда.
Между тем из немногого, что я здесь привел, ясно видно, что полный словарь со всеми необходимыми объяснениями не только возможен, но и легко может быть составлен. Разделы уже есть; нужно лишь заполнить их, и систематическая топика, подобная настоящей, редко позволяет ошибиться в том, куда относится каждое понятие, и легко заметить, какие места еще пусты.
§ 11Над этой таблицей категорий можно сделать несколько интересных наблюдений, которые, возможно, будут иметь значительные последствия для научной формы всего рационального познания. Уже само собой разумеется, что эта таблица чрезвычайно полезна, даже незаменима в теоретической части философии для полного составления плана всей науки, поскольку она основана на понятиях a priori, и для ее математического разделения по определенным принципам, ибо упомянутая таблица содержит все элементарные понятия рассудка полностью, даже саму форму их системы в человеческом рассудке, и, следовательно, дает указания на все моменты предполагаемой спекулятивной науки, даже на их порядок, как я уже показал это в другом месте.
«Метафизические начала естествознания»
Вот некоторые из этих замечаний:
Первое: эта таблица, содержащая четыре класса рассудочных понятий, может быть сначала разделена на два отдела, из которых первый относится к предметам созерцания (как чистого, так и эмпирического), а второй – к существованию этих предметов (либо в их отношении друг к другу, либо к рассудку).
Первый класс я назвал бы математическими категориями, второй – динамическими. Как видно, первый класс не имеет коррелятов, которые встречаются только во втором классе. Это различие должно иметь основание в природе рассудка.









