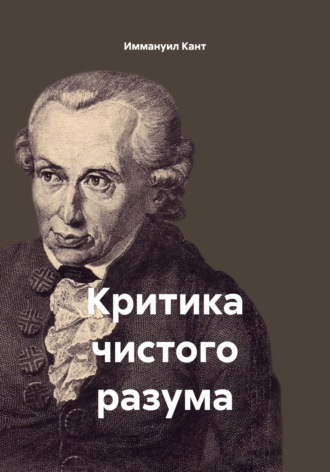
Полная версия
Критика чистого разума
Второе замечание: повсюду в каждом классе категорий их число одинаково, а именно три, что также заслуживает размышления, поскольку всякое другое деление a priori через понятия должно быть дихотомией. Кроме того, третья категория везде возникает из соединения второй с первой в своем классе.
Так, всеобщность (тотальность) есть не что иное, как множество, рассматриваемое как единство; ограничение есть не что иное, как реальность, соединенная с отрицанием; общение есть причинность одной субстанции в определении другой, взаимно; наконец, необходимость есть не что иное, как существование, данное самой возможностью. Однако не следует думать, что поэтому третья категория является лишь производной, а не родовым понятием чистого рассудка. Ибо соединение первой и второй для создания третьего понятия требует особого акта рассудка, не тождественного с тем, который осуществляется в первой и второй.
Так, понятие числа (относящееся к категории всеобщности) не всегда возможно там, где есть понятия множества и единства (например, в представлении бесконечного), или из соединения понятия причины и субстанции еще не сразу понятно влияние, т.е. как субстанция может быть причиной чего-то в другой субстанции. Отсюда видно, что для этого требуется особый акт рассудка; то же и в остальных случаях.
3-е примечание. Для одной-единственной категории, а именно категории общности (находящейся под третьим заголовком), соответствие с соответствующей ей формой разделительного суждения в таблице логических функций не так бросается в глаза, как для остальных.
Чтобы убедиться в этом соответствии, следует заметить: во всех разделительных суждениях сфера (множество всего, что под ним содержится) представляется как целое, разделённое на части (подчинённые понятия), и поскольку одна часть не может содержаться под другой, они мыслятся как координированные, а не подчинённые, то есть определяют друг друга не односторонне (как в ряду), а взаимно (как в агрегате) – так что если устанавливается один член деления, все остальные исключаются, и наоборот.
Подобная связь мыслится и в целом вещей, где одно не подчинено другому как причина своего существования, а одновременно и взаимно соподчинено в отношении определения другого (например, в теле, части которого взаимно притягивают и сопротивляются). Это совершенно иной вид связи, чем в простом отношении причины к действию (основания к следствию), где следствие не определяет обратно основание и потому не составляет с ним целого (как творец мира с миром).
Тот же приём рассудка, когда он представляет себе сферу разделённого понятия, он применяет и тогда, когда мыслит вещь как делимое: как члены деления в первом случае исключают друг друга, но связаны в одной сфере, так и части во втором случае представляются как существующие (в качестве субстанций) независимо друг от друга, но соединённые в одном целом.
§ 12Однако в трансцендентальной философии древних есть ещё один важный раздел, содержащий чистые рассудочные понятия, которые, хотя и не причисляются к категориям, должны были бы считаться априорными понятиями объектов – но в таком случае они увеличили бы число категорий, чего быть не может.
Этот раздел представлен известным у схоластов положением: quodlibet ens est unum, verum, bonum («всякое сущее есть единое, истинное, благое»). Хотя применение этого принципа в отношении выводов (дававших исключительно тавтологические суждения) было весьма скудным, так что в новое время его обычно упоминали в метафизике лишь из почтения, – всё же мысль, сохранявшаяся так долго, пусть и кажущаяся пустой, заслуживает исследования своего происхождения и даёт основание предположить, что она коренится в некотором правиле рассудка, просто (как часто бывает) истолкованном ошибочно.
Эти мнимые трансцендентальные предикаты вещей суть не что иное, как логические требования и критерии всякого познания вещей вообще, основывающиеся на категориях количества – единства, множества и всеобщности, – с той лишь разницей, что они, вместо того чтобы браться материально (как принадлежащие к возможности самих вещей), фактически использовались лишь формально (как относящиеся к логическому требованию в отношении всякого познания), и тем не менее эти критерии мышления неосторожно превращались в свойства вещей самих по себе.
В каждом познании объекта есть:
1) Единство понятия (можно назвать его качественным единством), поскольку под ним мыслится единство объединения многообразия познания – например, единство темы в пьесе, речи или басне.
2) Истинность в отношении следствий: чем больше истинных следствий вытекает из данного понятия, тем больше признаков его объективной реальности. Это можно назвать качественным множеством признаков, относящихся к понятию как к общему основанию (но не мыслимых в нём как величина).
3) Совершенство, состоящее в том, что это множество, в свою очередь, сводится обратно к единству понятия и полностью согласуется именно с ним, а не с другим. Это можно назвать качественной завершённостью (тотальностью).
Отсюда ясно, что эти логические критерии возможности познания вообще лишь преобразуют три категории количества (в которых единство при образовании квантума всегда предполагается однородным) – но здесь в отношении связи разнородных элементов познания в одном сознании через качество познания как принципа.
Так, критерием возможности понятия (но не его объекта) является определение, где единство понятия, истинность всего, что из него может быть выведено, и, наконец, полнота извлечённого из него составляют необходимое для построения целого понятия.
Или, например, критерием гипотезы является:
– понятность принятого основания объяснения (его единство без вспомогательных гипотез),
– истинность (согласованность с собой и с опытом) выводимых из него следствий,
– полнота основания по отношению к ним, указывающая ровно на то, что принято в гипотезе (не больше и не меньше), так что априорно синтетически мыслимое апостериори аналитически подтверждается.
Таким образом, понятия единства, истины и совершенства вовсе не дополняют трансцендентальную таблицу категорий (как будто она недостаточна), а лишь – при полном отвлечении от их отношения к объектам – подводят обращение с ними под общие логические правила согласованности познания с самим собой.
Вторая глава. О дедукции чистых рассудочных понятий Первый раздел. § 13. О принципах трансцендентальной дедукции вообщеЮристы, говоря о правах и притязаниях, в правовом споре различают вопрос о праве (quid juris) от вопроса о факте (quid facti), и, требуя доказательств для обоих, называют первый, который должен подтвердить правомочность или юридическое притязание, дедукцией. Мы пользуемся множеством эмпирических понятий без возражений со стороны других и считаем себя вправе приписывать им значение и воображаемый смысл даже без дедукции, поскольку всегда имеем под рукой опыт для подтверждения их объективной реальности. Однако существуют и узурпированные понятия, такие как счастье, судьба, которые, хотя и употребляются почти всеобщим снисхождением, все же иногда подвергаются вопросу quid juris, ставящему в затруднение при попытке их дедукции, поскольку нельзя привести ясного правового основания ни из опыта, ни из разума, которое бы обосновывало правомерность их употребления.
Среди множества понятий, составляющих сложную ткань человеческого познания, есть такие, которые предназначены для чистого априорного употребления (полностью независимого от всякого опыта), и их правомерность всегда требует дедукции. Поскольку для обоснования законности такого употребления доказательства из опыта недостаточны, необходимо понять, каким образом эти понятия могут относиться к объектам, которые они не заимствуют из опыта. Поэтому я называю трансцендентальной дедукцией объяснение того, как априорные понятия могут относиться к предметам, и отличаю её от эмпирической дедукции, которая показывает, как понятие приобретается через опыт и рефлексию о нём, и, следовательно, касается не законности, а факта происхождения владения этим понятием.
Мы уже имеем два вида понятий совершенно различной природы, которые, однако, сходны в том, что оба относятся к предметам совершенно априорно:
1. Понятия пространства и времени как формы чувственности,
2. Категории как понятия рассудка.
Попытка эмпирической дедукции для них была бы совершенно бесплодной, поскольку их отличительная черта как раз и состоит в том, что они относятся к предметам, не заимствуя ничего из опыта для их представления. Следовательно, если их дедукция необходима, она всегда должна быть трансцендентальной.
Тем не менее, для этих понятий, как и для всякого познания, можно искать не принцип их возможности, а причину их возникновения в опыте. Здесь впечатления чувств дают первый толчок, раскрывая всю познавательную способность по отношению к ним и создавая опыт, который содержит два совершенно разнородных элемента:
– Материю познания (из чувств),
– Форму её упорядочивания (из внутреннего источника чистого созерцания и мышления).
При столкновении с первым эти формы активизируются и порождают понятия. Исследование первых усилий нашей познавательной способности, направленных на восхождение от единичных восприятий к общим понятиям, несомненно, полезно, и заслуга Локка в том, что он первым проложил этот путь. Однако дедукция чистых априорных понятий таким образом никогда не может быть осуществлена, поскольку она лежит совершенно в иной плоскости: в отношении их будущего употребления, которое должно быть полностью независимо от опыта, они должны предъявить иное свидетельство о рождении, нежели происхождение из опыта.
Эту попытку физиологического выведения (которую нельзя назвать дедукцией, так как она касается quaestionem facti), я предлагаю именовать объяснением владения чистым познанием. Таким образом, ясно, что для этих понятий возможна только трансцендентальная дедукция, а отнюдь не эмпирическая, и что последняя в отношении чистых априорных понятий – лишь тщетные попытки, которыми может заниматься только тот, кто не понял совершенно своеобразной природы этих знаний.
Хотя единственно возможный способ дедукции чистого априорного познания – трансцендентальный, из этого ещё не следует, что она абсолютно необходима. Ранее мы проследили понятия пространства и времени до их источников посредством трансцендентальной дедукции и объяснили их априорную объективную значимость. Однако геометрия уверенно продвигается вперёд, опираясь исключительно на априорные знания, не нуждаясь в философском удостоверении чистого и закономерного происхождения своего основного понятия – пространства.
Но в этой науке использование понятия ограничено внешним чувственным миром, где пространство есть чистая форма его созерцания. Поэтому все геометрические знания, основанные на априорном созерцании, обладают непосредственной очевидностью, а предметы даются через само познание априорно (по форме) в созерцании.
С чистыми рассудочными понятиями дело обстоит иначе: здесь возникает необходимость искать не только их трансцендентальную дедукцию, но и дедукцию пространства. Поскольку они говорят о предметах не через предикаты чувственности, а через предикаты чистого априорного мышления, они относятся к предметам без всяких условий чувственности. А так как они не основаны на опыте, то не могут указать в априорном созерцании ни одного объекта, на котором основывалась бы их синтеза до всякого опыта.
Это не только вызывает сомнения в объективной значимости и границах их употребления, но и делает сам понятие пространства двусмысленным, поскольку они склонны применять его за пределами условий чувственного созерцания. Поэтому ранее и потребовалась его трансцендентальная дедукция.
Таким образом, читатель должен быть убеждён в неизбежной необходимости такой дедукции ещё до того, как сделает первый шаг в области чистого разума. Иначе он будет действовать вслепую и, после долгих блужданий, вернётся к исходному неведению.
Однако он должен заранее ясно осознать неизбежную трудность, чтобы не жаловаться на темноту там, где сама вещь глубоко скрыта, или не впадать в уныние от устранения препятствий слишком рано. Ведь речь идёт о том, чтобы либо полностью отказаться от всех притязаний на познание чистым разумом (особенно в самом соблазнительном поле – за пределами всех возможных опытов), либо довести это критическое исследование до совершенства.
Ранее мы легко показали, как понятия пространства и времени, будучи априорными знаниями, необходимо относятся к предметам и делают возможным синтетическое знание о них независимо от опыта. Поскольку только через эти чистые формы чувственности нам может явиться предмет (то есть объект эмпирического созерцания), пространство и время суть чистые созерцания, содержащие условия возможности предметов как явлений априори, и их синтез обладает объективной значимостью.
Категории рассудка, напротив, вовсе не представляют условий, при которых предметы даются в созерцании. Следовательно, предметы могут являться нам, не обязательно соотносясь с функциями рассудка, и рассудок не содержит их условий априори.
Здесь возникает трудность, которой не было в области чувственности: как субъективные условия мышления могут иметь объективную значимость, то есть быть условиями возможности всякого познания предметов. Ведь явления могут даваться в созерцании без функций рассудка.
Например, возьмём понятие причины, означающее особый вид синтеза, где нечто В полагается согласно правилу на совершенно иное А. Априори не ясно, почему явления должны содержать нечто подобное (ведь опыт не может служить доказательством, поскольку объективная значимость этого понятия должна быть показана априори). Поэтому априори сомнительно, не является ли такое понятие пустым и не найдётся ли ему ни одного предмета среди явлений.
То, что предметы чувственного созерцания должны соответствовать формальным условиям чувственности, данным в душе априори, очевидно, иначе они не были бы предметами для нас. Но что они должны также соответствовать условиям, необходимым рассудку для синтетического единства мышления, – этот вывод не так легко понять.
Ведь явления могли бы быть устроены так, что рассудок не находил бы их соответствующими условиям своего единства, и всё пребывало бы в хаосе. Например, в последовательности явлений не было бы ничего, что давало бы правило синтеза, соответствующее понятию причины и следствия, так что это понятие оказалось бы совершенно пустым, лишённым значения.
Тем не менее, явления продолжали бы предлагать нашей интуиции предметы, поскольку созерцание не нуждается в функциях мышления.
Если бы кто-то попытался избежать трудностей этого исследования, утверждая, что опыт постоянно предоставляет примеры такой регулярности явлений, которая дает достаточный повод для выделения понятия причины и одновременно подтверждает его объективную значимость, то он не замечает, что таким образом понятие причины вообще не может возникнуть. Оно либо должно быть полностью априорно заложено в рассудке, либо должно быть отвергнуто как чистая фикция.
Это понятие требует, чтобы нечто А было таким, что другое В следовало из него с необходимостью и согласно абсолютно всеобщему правилу. Явления действительно предоставляют случаи, позволяющие установить правило, по которому нечто обычно происходит, но никогда не доказывают, что следствие необходимо. Поэтому синтез причины и действия обладает достоинством, которое невозможно выразить эмпирически: действие не просто присоединяется к причине, а устанавливается ею и вытекает из нее.
Строгая всеобщность правила также не является свойством эмпирических правил, которые через индукцию приобретают лишь сравнительную всеобщность, то есть широкую применимость. Однако применение чистых рассудочных понятий полностью изменилось бы, если бы их рассматривали лишь как продукты опыта.
§ 14. Переход к трансцендентальной дедукции категорий.Возможны только два случая, при которых синтетические представления и их объекты соотносятся друг с другом необходимо и как бы встречаются:
1) либо объект делает представление возможным,
2) либо представление делает объект возможным.
В первом случае это отношение лишь эмпирическое, и представление никогда не может быть априорным. Так обстоит дело с явлениями в отношении того, что в них принадлежит к ощущению.
Во втором случае, поскольку представление само по себе (мы здесь не говорим о его причинности через волю) не производит объект в существовании, оно тем не менее априорно определяет объект, если только через него возможно познать нечто как объект.
Условия познания объекта таковы:
1) созерцание, через которое объект дается, но лишь как явление;
2) понятие, через которое мыслится объект, соответствующий этому созерцанию.
Из сказанного ясно, что первое условие (то, при котором объекты могут быть созерцаемы) априорно лежит в основе объектов по форме. С этой формальной условием чувственности все явления необходимо согласуются, поскольку только через него они могут являться, то есть эмпирически созерцаться и даваться.
Теперь возникает вопрос: не существуют ли также априорные понятия как условия, при которых нечто, хотя и не созерцаемое, может мыслиться как объект вообще? В таком случае, всякое эмпирическое познание объектов необходимо согласуется с этими понятиями, потому что без них ничто не может стать объектом опыта.
Всякий опыт, помимо чувственного созерцания (которое дает нечто), содержит также понятие объекта, данного в созерцании или являющегося. Следовательно, понятия объектов вообще лежат в основе как априорные условия всякого опытного познания. Поэтому объективная значимость категорий как априорных понятий состоит в том, что только через них возможен опыт (по форме мышления). Они необходимо и априорно относятся к объектам опыта, потому что только посредством них вообще можно мыслить любой объект опыта.
Таким образом, трансцендентальная дедукция всех априорных понятий имеет принцип, на который должно быть направлено все исследование: они должны быть признаны априорными условиями возможности опыта (будь то созерцания или мышления).
Понятия, дающие объективное основание возможности опыта, тем самым необходимы. Однако их обнаружение в опыте – не их дедукция (а лишь иллюстрация), иначе они были бы случайны. Без этой изначальной связи с возможным опытом, в котором встречаются все объекты познания, их отношение к какому-либо объекту вообще нельзя было бы понять.
Знаменитый Локк, упустив это из виду и найдя чистые рассудочные понятия в опыте, вывел их из опыта, но поступил непоследовательно, попытавшись с их помощью достичь знаний, далеко выходящих за пределы всякого опыта.
Дэвид Юм понял, что для этого эти понятия должны иметь априорное происхождение. Но, не сумев объяснить, как рассудок может мыслить их необходимо связанными в объекте (хотя они не связаны в нем самом), и не предположив, что, возможно, рассудок через эти понятия сам является творцом опыта, где встречаются его объекты, он вынужденно вывел их из опыта (а именно, из субъективной необходимости, возникающей при частой ассоциации в опыте, которая затем ошибочно принимается за объективную – то есть из привычки). Впоследствии он последовательно утверждал, что с этими понятиями и принципами невозможно выйти за пределы опыта.
Однако эмпирическое выведение, на которое опирались оба, не согласуется с существованием априорных научных знаний (чистой математики и общей естественной науки) и потому опровергается фактами.
Первый из этих мыслителей открыл дверь мечтательности, поскольку разум, однажды получив права, уже не сдерживается неопределенными призывами к умеренности. Второй полностью впал в скептицизм, решив, что обнаружил всеобщий обман нашего познавательного способа.
Теперь мы попытаемся провести человеческий разум между этими двумя крайностями, указать ему четкие границы и одновременно сохранить открытым все поле его целесообразной деятельности.
Предварительно дадим определение категорий. Это понятия объекта вообще, через которые его созерцание рассматривается как определенное относительно одной из логических функций суждений.
Например, функцией категорического суждения было отношение подлежащего к сказуемому: «Все тела делимы». Но при чисто логическом использовании рассудка оставалось неясным, какой из двух понятий следует считать подлежащим, а какой – сказуемым. Можно ведь сказать и «Некоторые делимое есть тело». Однако категория субстанции, если я подвожу под нее понятие тела, определяет, что его эмпирическое созерцание в опыте должно всегда рассматриваться только как подлежащее, а не как mere сказуемое. То же относится и к остальным категориям.
Дедукция чистых рассудочных понятий.Раздел второй. Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий.
§ 15. О возможности связи вообще.Многообразие представлений может быть дано в созерцании, которое является лишь чувственным, то есть не более чем восприимчивостью, и форма этого созерцания может априори находиться в нашей способности представления, не будучи ничем иным, кроме как способом, каким субъект подвергается воздействию. Однако связь (conjunctio) многообразного вообще никогда не может проникнуть в нас через чувства и, следовательно, не может быть уже изначально заключена в чистой форме чувственного созерцания. Ведь она есть акт спонтанности способности представления, и, поскольку эту способность, в отличие от чувственности, следует называть рассудком, то всякая связь – осознаём мы её или нет, будь то связь многообразия созерцания или различных понятий, а в первом случае – чувственного или нечувственного созерцания, – есть действие рассудка, которое мы обозначили бы общим названием синтез.
Этим мы одновременно указываем на то, что мы не можем представить себе ничего как связанное в объекте, если не связали его предварительно сами, и что среди всех представлений связь – единственная, которая не даётся объектами, а может быть осуществлена только самим субъектом, поскольку она есть акт его самодеятельности. Здесь легко заметить, что это действие изначально должно быть единым и одинаково значимым для всякой связи, и что анализ (разложение), кажущийся его противоположностью, всегда его предполагает. Ведь там, где рассудок ничего не связал, он не может и ничего разложить, поскольку только через него нечто могло быть дано способности представления как связанное.
Но понятие связи, помимо понятия многообразия и его синтеза, включает в себя ещё и понятие единства этого многообразия. Связь есть представление синтетического единства многообразного. Следовательно, представление этого единства не может возникнуть из связи, а, напротив, лишь благодаря тому, что оно добавляется к представлению многообразия, впервые делает возможным само понятие связи.
Это единство, предшествующее априори всем понятиям связи, – не та категория единства (§ 10), ведь все категории основываются на логических функциях в суждениях, а в них уже мыслится связь, а значит, и единство данных понятий. Таким образом, категория уже предполагает связь. Поэтому мы должны искать это единство (как качественное, § 12) ещё выше – а именно в том, что само составляет основание единства различных понятий в суждениях и, следовательно, возможности рассудка даже в его логическом применении.
Тождественны ли сами представления и может ли одно быть мыслимо через другое аналитически – здесь не рассматривается. Сознание одного, поскольку речь идёт о многообразии, всегда следует отличать от сознания другого, и здесь важно лишь синтетическое единство этого (возможного) сознания.
§ 16. О первоначально-синтетическом единстве апперцепции.«Я мыслю» должно иметь возможность сопровождать все мои представления, иначе во мне представлялось бы нечто, что вообще не могло бы быть мыслимо, что равнозначно тому, что представление либо невозможно, либо, по крайней мере, для меня – ничто. Представление, которое может быть дано до всякого мышления, называется созерцанием. Следовательно, всё многообразие созерцания имеет необходимое отношение к «Я мыслю» в том же самом субъекте, в котором это многообразие находится.
Однако это представление («Я мыслю») есть акт спонтанности, то есть его нельзя считать принадлежащим чувственности. Я называю его чистой апперцепцией, чтобы отличить от эмпирической, или же первоначальной апперцепцией, поскольку оно есть то самосознание, которое, порождая представление «Я мыслю», должно иметь возможность сопровождать все остальные и во всяком сознании является одним и тем же, не будучи само сопровождаемо никаким другим.
Я называю единство этой апперцепции трансцендентальным единством самосознания, чтобы обозначить возможность априорного познания, основанного на нём. Ведь многообразные представления, данные в некотором созерцании, не были бы моими представлениями, если бы все они не принадлежали к одному самосознанию, то есть они (даже если я не осознаю их как таковые) должны необходимо соответствовать условию, при котором они могут находиться вместе в всеобщем самосознании, иначе они не принадлежали бы мне полностью. Из этой первоначальной связи можно вывести многое.









