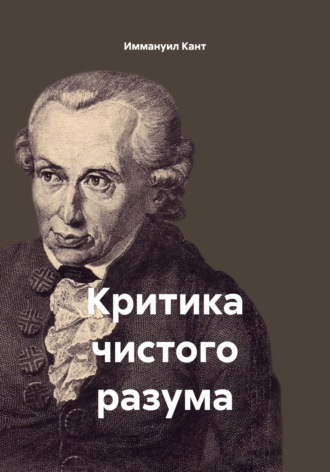
Полная версия
Критика чистого разума
А именно: всеобщая тождественность апперцепции многообразия, данного в созерцании, содержит в себе синтез представлений и возможна только через сознание этого синтеза. Ведь эмпирическое сознание, сопровождающее различные представления, само по себе разрозненно и не относится к тождеству субъекта. Это отношение возникает не просто потому, что я сопровождаю каждое представление сознанием, а потому, что я присоединяю одно к другому и осознаю их синтез.
Таким образом, только благодаря тому, что я могу соединить многообразие данных представлений в одном сознании, я могу представить себе тождество сознания в самих этих представлениях, то есть аналитическое единство апперцепции возможно лишь при условии некоторого синтетического единства.
Мысль: «Эти данные в созерцании представления все принадлежат мне» означает, следовательно, то же самое, что «Я соединяю их в одном самосознании» (или, по крайней мере, могу так соединить). И хотя эта мысль сама по себе ещё не есть сознание синтеза представлений, она всё же предполагает его возможность, то есть лишь потому, что я могу охватить многообразие представлений в одном сознании, я называю их все моими представлениями. В противном случае у меня было бы столько же разнообразных «я», сколько у меня есть представлений, которые я осознаю.
Синтетическое единство многообразия созерцаний, данного априори, есть, таким образом, основание тождества самой апперцепции, которое априори предшествует всякому моему определённому мышлению. Однако связь не находится в объектах и не может быть заимствована из них через восприятие, чтобы затем впервые войти в рассудок, а есть исключительно действие рассудка, который сам есть не что иное, как способность априори связывать и подводить многообразие данных представлений под единство апперцепции. Этот принцип есть высший основополагающий принцип всего человеческого познания.
Аналитическое единство сознания присуще всем общим понятиям как таковым. Например, если я мыслю красное вообще, то представляю себе свойство, которое (как признак) может встречаться в чём-то или быть связано с другими представлениями. Следовательно, лишь благодаря предполагаемому заранее возможному синтетическому единству я могу представить себе аналитическое. Представление, которое мыслится как общее для нескольких, рассматривается как принадлежащее к тем, которые помимо него имеют в себе ещё нечто различное. Поэтому оно должно быть сначала мыслимо в синтетическом единстве с другими (хотя бы только возможными) представлениями, прежде чем я смогу мыслить в нём аналитическое единство сознания, делающее его conceptus communis (общим понятием).
Таким образом, синтетическое единство апперцепции есть высшая точка, к которой следует возводить всё применение рассудка, даже всю логику и, вслед за ней, трансцендентальную философию. Более того, эта способность есть сам рассудок.
§ 17. Принцип синтетического единства апперцепции есть высший принцип всякого применения рассудка.Согласно трансцендентальной эстетике, высший принцип возможности всякого созерцания в отношении чувственности гласит:
Всё многообразие чувственности подчинено формальным условиям пространства и времени.
Высший принцип возможности того же созерцания в отношении рассудка гласит:
Всё многообразие созерцания подчинено условиям первоначально-синтетического единства апперцепции.
Под первым принципом находятся все многообразные представления созерцания поскольку они нам даны, под вторым – поскольку они должны быть способны соединяться в одном сознании. Без этого ничто не может быть мыслимо или познано, поскольку данные представления не имели бы общего акта апперцепции «Я мыслю» и, следовательно, не были бы объединены в одном самосознании.
Пространство, время и все их части суть созерцания, то есть единичные представления, содержащие в себе многообразие (см. трансцендентальную эстетику), а не просто понятия, в которых одно и то же сознание содержится во многих представлениях. Напротив, в созерцании многие представления содержатся в одном, и их сознание является составным, так что единство сознания обнаруживается как синтетическое, но при этом изначальное. Эта единичность пространства и времени важна в применении (см. § 25).
Рассудок, вообще говоря, есть способность познаний. Они состоят в определенном отношении данных представлений к объекту. Объект же есть то, в понятии чего объединено многообразное данной интуиции. Однако всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, единство сознания есть то, что определяет отношение представлений к предмету, их объективную значимость, благодаря чему они становятся познаниями, и на чем, таким образом, основывается сама возможность рассудка.
Первое чистое рассудочное познание, на котором основывается все остальное его применение и которое в то же время совершенно независимо от всех условий чувственной интуиции, есть основоположение изначального синтетического единства апперцепции. Так, чистая форма внешнего чувственного созерцания – пространство – еще вовсе не есть познание; она лишь дает многообразное априорной интуиции для возможного познания. Но чтобы познать что-либо в пространстве, например линию, я должен провести ее и, таким образом, синтетически осуществить определенное соединение данного многообразного так, чтобы единство этого действия было одновременно единством сознания (в понятии линии), и благодаря этому впервые познается объект (определенное пространство). Следовательно, синтетическое единство сознания есть объективное условие всякого познания: не только я сам нуждаюсь в нем, чтобы познать объект, но и всякое созерцание должно подчиняться этому условию, чтобы стать для меня объектом, так как иным образом, без этого синтеза, многообразное не объединилось бы в одном сознании.
Это последнее положение, как уже сказано, само по себе аналитично, хотя оно и делает синтетическое единство условием всякого мышления, ибо оно лишь утверждает, что все мои представления в любом данном созерцании должны подчиняться условию, при котором только я могу относить их к тождественному "Я" как мои представления и, следовательно, могу объединять их в одном самосознании посредством всеобщего выражения "Я мыслю".
Однако это основоположение не есть принцип для всякого возможного рассудка вообще, а только для того, чистая апперцепция которого в представлении "Я есмь" не дает еще никакого многообразного. Рассудок, для которого самосознание одновременно давало бы многообразное созерцания, – то есть рассудок, представление которого одновременно вызывало бы существование объектов этого представления, – не нуждался бы в особом акте синтеза многообразного для единства сознания, в котором нуждается человеческий рассудок, лишь мыслящий, но не созерцающий. Но для человеческого рассудка это основоположение неизбежно является первым принципом, так что он даже не может составить себе ни малейшего понятия о другом возможном рассудке, будь то рассудок, который сам созерцает, или же рассудок, обладающий в основе чувственным созерцанием, но иного рода, чем созерцание в пространстве и времени.
§ 18. Что такое объективное единство самосознания.Трансцендентальное единство апперцепции есть то, посредством чего все многообразное, данное в созерцании, объединяется в понятие объекта. Поэтому оно называется объективным и должно отличаться от субъективного единства сознания, которое есть определение внутреннего чувства, посредством которого это многообразное созерцания дается для такой связи эмпирически. Могу ли я осознавать многообразное как одновременное или последовательное – это зависит от обстоятельств или эмпирических условий. Поэтому эмпирическое единство сознания, возникающее через ассоциацию представлений, само относится к явлениям и совершенно случайно. Напротив, чистая форма созерцания во времени, просто как созерцание вообще, содержащее данное многообразное, подчинена изначальному единству сознания исключительно через необходимое отношение многообразного созерцания к единому "Я мыслю", то есть через чистый синтез рассудка, который априорно лежит в основе эмпирического. Только это единство объективно значимо; эмпирическое единство апперцепции, которое мы здесь не рассматриваем и которое лишь производно от первого при данных условиях in concreto, имеет лишь субъективную значимость. Один связывает представление определенного слова с одной вещью, другой – с другой, и единство сознания в эмпирическом отношении к данному не является необходимым и общезначимым.
§ 19. Логическая форма всех суждений состоит в объективном единстве апперцепции содержащихся в них понятий.Я никогда не мог удовлетвориться определением, которое дают логики суждению вообще: они говорят, что суждение есть представление отношения между двумя понятиями. Не вступая здесь в спор о недостатке этого определения, которое, возможно, подходит только для категорических, но не для гипотетических и дизъюнктивных суждений (поскольку последние содержат отношение не понятий, а самих суждений), – хотя из этого упущения логики проистекали многие досадные последствия, – я лишь замечу, что в этом определении не указано, в чем состоит это отношение.
Но если я точнее исследую отношение данных познаний в каждом суждении и, как принадлежащее рассудку, отличу его от отношения по законам репродуктивного воображения (которое имеет лишь субъективную значимость), то я нахожу, что суждение есть не что иное, как способ приводить данные познания к объективному единству апперцепции. На это направлено связующее слово "есть" в суждении, чтобы отличить объективное единство данных представлений от субъективного. Ибо это слово обозначает отношение представлений к изначальной апперцепции и их необходимое единство, даже если само суждение эмпирически и, следовательно, случайно, например: "Тела тяжелы". Этим я не хочу сказать, что эти представления необходимо принадлежат друг другу в эмпирическом созерцании, но что они принадлежат друг другу в силу необходимого единства апперцепции в синтезе созерцаний, то есть согласно принципам объективного определения всех представлений, поскольку из них может возникнуть познание, – принципам, которые все выводятся из основоположения трансцендентального единства апперцепции. Только благодаря этому отношение становится суждением, то есть отношением, имеющим объективную значимость и достаточно отличающимся от отношения тех же представлений, если бы оно имело лишь субъективную значимость, например по законам ассоциации. По последним я мог бы лишь сказать: "Когда я несу тело, я чувствую давление тяжести", но не: "Оно, тело, тяжело", что означает, что эти два представления соединены в объекте, то есть независимо от состояния субъекта, а не просто находятся вместе в восприятии (сколь бы часто оно ни повторялось).
§ 20. Все чувственные созерцания подчинены категориям как условиям, при которых только их многообразное может соединяться в одном сознании.Многообразное, данное в чувственном созерцании, необходимо подчинено изначальному синтетическому единству апперцепции, так как только через него возможно единство созерцания (§ 17). Но действие рассудка, посредством которого многообразное данных представлений (будь то созерцания или понятия) подводится под апперцепцию вообще, есть логическая функция суждений (§ 19). Следовательно, все многообразное, поскольку оно дано в одном эмпирическом созерцании, определено относительно одной из логических функций суждения, посредством которой оно именно и приводится к единству сознания. Но категории суть не что иное, как эти функции суждения, поскольку многообразное данного созерцания определено относительно них (§ 13). Таким образом, многообразное в данном созерцании необходимо подчинено категориям.
§ 21. Примечание.Многообразное, содержащееся в созерцании, которое я называю своим, представляется через синтез рассудка как принадлежащее необходимому единству самосознания, и это происходит посредством категории. Последняя, таким образом, указывает, что эмпирическое сознание данного многообразного одного созерцания подчинено чистому самосознанию a priori точно так же, как эмпирическое созерцание – чистому чувственному, которое также имеет место a priori.
В приведенном положении, таким образом, сделан начальный шаг дедукции чистых рассудочных понятий, в которой, поскольку категории возникают в рассудке независимо от чувственности, я должен абстрагироваться от способа, каким многообразное дается для эмпирического созерцания, чтобы обратить внимание лишь на единство, которое вносится в созерцание рассудком посредством категории. В дальнейшем (§ 26) будет показано, исходя из способа, каким в чувственности дается эмпирическое созерцание, что его единство есть не что иное, как то, которое категория предписывает многообразному данного созерцания вообще согласно предыдущему § 20, и тем самым, через априорное объяснение их значимости для всех объектов наших чувств, цель дедукции будет впервые полностью достигнута.
Основа доказательства заключается в представленном единстве созерцания, через которое дается объект, – единстве, всегда включающем в себя синтез данного в созерцании многообразного и уже содержащем отношение этого многообразного к единству апперцепции.
Однако в приведенном доказательстве я не мог абстрагироваться от одного момента, а именно от того, что многообразное для созерцания должно быть дано до синтеза рассудка и независимо от него; но каким образом – здесь остается неопределенным. Ибо если бы я представил себе рассудок, который сам созерцает (например, божественный, который не представлял бы себе данные объекты, но через представление которого объекты сами давались бы или производились), то категории не имели бы никакого значения для такого познания. Они суть лишь правила для рассудка, все способности которого состоят в мышлении, то есть в действии приведения синтеза многообразного, данного ему в созерцании со стороны, к единству апперцепции, – рассудка, который сам по себе ничего не познает, а лишь связывает и упорядочивает материал для познания, созерцание, которое должно быть дано ему через объект.
Что же касается особенности нашего рассудка – осуществлять единство апперцепции a priori только посредством категорий и именно таким их числом и видом, – то так же мало можно указать дальнейшее основание для этого, как и для того, почему мы имеем именно эти, а не иные функции суждения, или почему время и пространство суть единственные формы нашего возможного созерцания.
§ 22. Категории не имеют иного применения для познания вещей, кроме их использования в отношении объектов опыта.Мыслить объект и познавать объект – не одно и то же. Для познания требуется два элемента:
1) понятие, через которое вообще мыслится объект (категория),
2) созерцание, через которое объект дан.
Если к понятию вообще нельзя подобрать соответствующее созерцание, то оно останется мыслью по форме, но без всякого объекта, и с его помощью невозможно никакое познание вещей, так как не существовало бы и не могло существовать ничего, к чему эта мысль могла бы быть применена.
Всякое возможное для нас созерцание – чувственное (эстетическое). Поэтому мышление объекта через чистое рассудочное понятие становится у нас познанием лишь тогда, когда это понятие соотносится с объектами чувств.
Чувственное созерцание бывает:
– чистым (пространство и время),
– эмпирическим (непосредственное представление через ощущение того, что в пространстве и времени дано как действительное).
Через определение первого мы можем получать априорные знания о предметах (в математике), но только относительно их формы как явлений. Однако остается нерешенным, существуют ли вещи, которые должны созерцаться в этой форме.
Таким образом, сами по себе математические понятия – не познание, если только не предположить, что существуют вещи, которые могут быть представлены нам исключительно в форме чистого чувственного созерцания.
Но вещи в пространстве и времени даны нам лишь как восприятия (представления, сопровождаемые ощущением), то есть через эмпирическое представление. Следовательно, даже если чистые рассудочные понятия применяются к априорным созерцаниям (как в математике), они дают познание лишь постольку, поскольку эти созерцания (а значит, и сами категории через них) могут быть применены к эмпирическим созерцаниям.
Таким образом, категории через созерцание дают нам знание о вещах только через их возможное применение к эмпирическому созерцанию, то есть они служат лишь для возможности эмпирического познания. А это и есть опыт.
Вывод: Категории имеют значение для познания вещей исключительно в той мере, в какой эти вещи рассматриваются как объекты возможного опыта.
§ 23Приведенное положение имеет величайшую важность: оно устанавливает границы применения чистых рассудочных понятий к объектам так же, как трансцендентальная эстетика установила границы применения чистых форм нашего чувственного созерцания.
Пространство и время как условия возможности того, как нам могут быть даны объекты, имеют силу только для объектов чувств, то есть для опыта. За этими пределами они ничего не представляют, так как существуют лишь в чувствах и вне их не имеют реальности.
Чистые рассудочные понятия свободны от этого ограничения и распространяются на объекты созерцания вообще – схожего с нашим или нет, лишь бы оно было чувственным, а не интеллектуальным. Однако это расширение понятий за пределы нашего чувственного созерцания бесполезно: тогда они становятся пустыми понятиями объектов, о которых мы не можем даже судить, возможны ли они вообще. Это – лишь формы мысли без объективной реальности, так как у нас нет созерцания, к которому можно было бы применить синтетическое единство апперцепции (которое они содержат) и тем самым определить объект.
Только наше чувственное и эмпирическое созерцание может придать им смысл и значение.
Если допустить объект нечувственного созерцания, его можно описать всеми предикатами, которые следуют из того, что к нему неприменимо ничего из чувственного созерцания: например, что он не протяжен, не находится в пространстве, его длительность – не время, в нем нет изменений (последовательности определений во времени) и т. д. Но это не будет познанием, так как я лишь указываю, чем созерцание этого объекта не является, не зная, что же в нем содержится.
Главное же в том, что к такому «нечто» нельзя применить ни одну категорию. Например, понятие субстанции (чего-то, что существует как субъект, но никогда как предикат) остается пустым, если эмпирическое созерцание не дает случая для его применения.
(Подробнее об этом далее.)
§ 24. О применении категорий к объектам чувств вообще.Чистые рассудочные понятия относятся к объектам созерцания вообще (независимо от того, подобно ли оно нашему или иному, но все же чувственному). Но именно поэтому они – лишь формы мысли, через которые еще не познается никакой определенный объект.
Их синтез (соединение многообразного) относился только к единству апперцепции и был основой возможности априорного познания, поскольку оно зависит от рассудка. Следовательно, этот синтез не только трансцендентален, но и чисто интеллектуален.
Однако в нас лежит априорная форма чувственного созерцания (основанная на восприимчивости чувственности). Поэтому рассудок как спонтанность может определять внутреннее чувство согласно синтетическому единству апперцепции через многообразие данных представлений.
Так он мыслит априорное синтетическое единство апперцепции многообразия чувственного созерцания как условие, которому необходимо подчиняются все объекты нашего (человеческого) созерцания.
Благодаря этому категории, будучи лишь формами мысли, приобретают объективную реальность – то есть применение к объектам, которые могут быть даны нам в созерцании, но только как явления, ибо только их мы способны созерцать априори.
Этот синтез многообразия чувственного созерцания (априорно возможный и необходимый) можно назвать образным синтезом (synthesis speciosa), в отличие от интеллектуального синтеза (synthesis intellectualis), который мыслится в категории относительно многообразия созерцания вообще.
Оба синтеза трансцендентальны – не только потому, что происходят априори, но и потому, что лежат в основе возможности другого априорного познания.
Трансцендентальный синтез воображения.
Если образный синтез направлен на изначальное синтетическое единство апперцепции (трансцендентальное единство, мыслимое в категориях), то в отличие от чисто интеллектуальной связи он называется трансцендентальным синтезом воображения.
Воображение – это способность представлять объект даже в его отсутствие. Поскольку все наше созерцание чувственно, воображение (из-за субъективного условия, при котором оно может давать созерцание, соответствующее рассудочным понятиям) относится к чувственности.
Но его синтез – проявление спонтанности (определяющей, а не только определяемой, как чувственность), поэтому оно может априори определять чувственность по форме согласно единству апперцепции.
Таким образом, воображение – это способность априори определять чувственность, и его синтез созерцаний согласно категориям есть трансцендентальный синтез воображения. Это – действие рассудка на чувственность и первое его применение (а также основа всех остальных) к объектам возможного для нас созерцания.
Как образный, он отличается от интеллектуального синтеза, который осуществляется рассудком без участия воображения.
Поскольку воображение – спонтанность, я иногда называю его продуктивным воображением, отличая от репродуктивного, чей синтез подчинен лишь эмпирическим законам ассоциации. Последнее не объясняет возможность априорного познания и потому относится не к трансцендентальной философии, а к психологии.
Разрешение парадокса внутреннего чувства.
Теперь можно объяснить парадокс, который должен был возникнуть при рассмотрении формы внутреннего чувства (§ 6): почему оно представляет нас себе лишь как мы являемся, а не как мы есть сами по себе.
Мы созерцаем себя лишь так, как мы внутренне затронуты, что кажется противоречивым: мы должны были бы относиться к себе как к страдательным. Поэтому в психологии часто смешивают внутреннее чувство с апперцепцией (хотя их надо строго различать).
Определяющая сила рассудка.
Внутреннее чувство определяется рассудком – его изначальной способностью связывать многообразие созерцания, подчиняя его апперцепции (что и делает возможным само внутреннее чувство).
Но рассудок у человека – не способность созерцания. Даже если созерцание дано в чувственности, он не может «вобрать» его в себя, чтобы связать многообразие своего созерцания. Поэтому его синтез, рассматриваемый сам по себе, – лишь единство действия, которое он осознает без чувственности.
Однако через это действие он способен внутренне определять чувственность относительно того многообразия, которое может быть дано ему по форме ее созерцания.
Так, под именем трансцендентального синтеза воображения рассудок совершает действие на пассивное субъективное начало (чувственность), и мы вправе сказать, что внутреннее чувство им затрагивается.
Апперцепция ≠ внутреннее чувство.
Апперцепция и ее синтетическое единство – не то же самое, что внутреннее чувство. Апперцепция – источник всякой связи и через категории относится к многообразию созерцаний вообще (до всякого чувственного созерцания).
Внутреннее же чувство содержит лишь форму созерцания, но без связи многообразия – то есть еще не определенное созерцание. Последнее возможно только через сознание определения внутреннего чувства трансцендентальным действием воображения (синтетическим влиянием рассудка на внутреннее чувство), которое я назвал образным синтезом.
Примеры.
Мы постоянно замечаем это в себе:
– Не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно,
– Не можем представить круг, не описывая его,
– Не можем вообразить три измерения пространства, не проводя три перпендикулярные линии из одной точки,
– Даже время мы представляем, проводя прямую линию (его образ) и обращая внимание на синтез многообразия, которым мы последовательно определяем внутреннее чувство.
Движение (как действие субъекта, а не как определение объекта) и синтез многообразия в пространстве, если отвлечься от самого пространства, впервые порождают понятие последовательности. Рассудок не находит эту связь в чувственности, а производит ее, воздействуя на нее.
«Я» как мыслящее и «Я» как созерцаемое
Как «Я» мыслящее отличается от «Я» созерцающего (поскольку я могу представить себе иной способ созерцания), но при этом тождественно ему как субъект?
Как я могу сказать: «Я, как интеллигенция и мыслящий субъект, познаю себя как мыслимый объект, но лишь так, как я дан себе в созерцании (как явление), а не так, как я существую для рассудка»?









