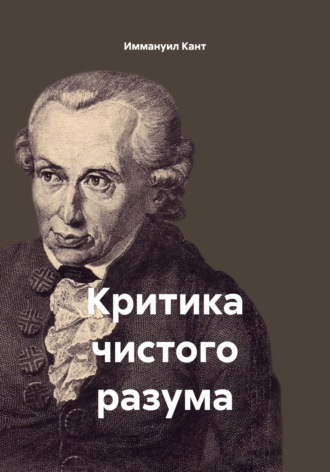
Полная версия
Критика чистого разума
Эмпиризм и критика априорности.
Эмпиризм и критика априорности представляют собой фундаментальную оппозицию рационалистическим концепциям врождённого знания. Эмпирики, начиная с Джона Локка, последовательно отрицали существование априорных идей, утверждая, что все содержание человеческого разума происходит исключительно из опыта. В «Опыте о человеческом разумении» (1689) Локк категорически заявляет: «Нет ничего в интеллекте, чего прежде не было бы в чувствах» (Кн. 2, гл. 1, §2), отвергая тем самым картезианскую теорию врождённых идей. Он доказывает, что даже такие абстрактные понятия, как Бог или математические истины, формируются через рефлексию над чувственными данными, а не даны от рождения. Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе» (1739) радикализирует этот тезис, распространяя его на принцип причинности – краеугольный камень рационалистической метафизики. Юм утверждает: «Мы не наблюдаем никакой "необходимой связи" между событиями, а лишь их постоянное соединение» (Кн. 1, ч. 3, §6), подчеркивая, что идея причинности возникает из повторяемости впечатлений и психологической привычки ожидать следствие после причины. Этот аргумент разрушает традиционные представления о всеобщих и необходимых истинах, показывая, что даже они коренятся в опыте. Критика Юма ставит под сомнение саму возможность априорного синтетического знания, позднее защищаемого Кантом, и закладывает основы феноменализма. Таким образом, эмпиризм не только отрицает врождённые идеи, но и релятивизирует ключевые категории человеческого мышления, сводя их к эмпирически обусловленным психическим механизмам.
Кантовский синтез
Поль Гайер в своей работе «Kant and the Claims of Knowledge» (1987) детально анализирует кантовскую теорию познания, подчеркивая, что её ключевым аспектом является неразрывное взаимодействие чувственности (Sinnlichkeit) и рассудка (Verstand), без которого невозможно никакое объективное знание. Как отмечает Гайер, Кант радикально переосмысливает традиционную гносеологическую проблематику, утверждая, что познание – это не пассивное усвоение данных извне, а активный процесс, в котором субъект структурирует опыт посредством априорных форм.
Чувственность, по Канту, обеспечивает материал познания – многообразие ощущений, которые даются в формах пространства и времени как априорных условий созерцания: «Посредством чувственности предметы нам даются, и только она доставляет нам созерцания» (КЧР, В33). Однако сами по себе эти данные оставались бы хаотичными, если бы рассудок не вносил в них необходимую организацию через категории. Как пишет Гайер, «чувственность поставляет сырой материал, но лишь рассудок придает ему когнитивную значимость, подчиняя его своим правилам» (p. 156).
Категории рассудка (такие как причинность, субстанция, взаимодействие) выступают условиями возможности синтеза многообразия в единство опыта. Этот синтез осуществляется через трансцендентальную апперцепцию – единство самосознания («Я мыслю»), которое должно сопровождать все представления (КЧР, В131). Гайер подчеркивает, что «без активности рассудка, применяющего категории к чувственным данным, не было бы ни объекта, ни объективного знания» (p. 159). Таким образом, кантовский синтез – это не механическое соединение двух элементов, а динамический процесс, в котором чувственность и рассудок взаимно обусловливают друг друга.
Критически оценивая кантовскую модель, Гайер обращает внимание на её уязвимые места, в частности на проблему «двойственной аффицированности» (чувственности как со стороны вещей в себе, так и со стороны субъекта), но тем не менее признаёт её новаторский характер: «Кант впервые систематически показал, что знание – это не зеркало природы, а результат конструктивной деятельности сознания» (p. 163). Этот тезис перекликается с интерпретациями других кантоведов: например, Генри Эллисон в «Kant’s Transcendental Idealism» (1983) утверждает, что «априорные формы у Канта – это не просто фильтры, а условия конституирования реальности как объекта познания» (p. 72).
Анализ Гайера позволяет глубже понять, почему кантовский синтез чувственности и рассудка остается фундаментальным для современной философии: он не только преодолевает тупик эмпиризма и рационализма, но и закладывает основы трансцендентального подхода, в котором субъект выступает не пассивным реципиентом, а активным участником конструирования познаваемого мира.
Трансцендентальная эстетика Канта и современные интерпретации в зарубежном кантоведении.
Трансцендентальная эстетика Канта, изложенная в «Критике чистого разума» (1781), остается одной из самых влиятельных и дискуссионных частей его философии. Кант утверждает, что пространство и время – не объективные свойства вещей самих по себе, а априорные формы чувственности, структурирующие человеческое восприятие:
«Пространство есть необходимое априорное представление, которое лежит в основе всех внешних созерцаний… Мы никогда не можем представить себе отсутствие пространства, хотя вполне можем мыслить его как пустое от объектов» (Кант, КЧР, А24/B38–39).
Аналогично время определяется как «форма внутреннего чувства, то есть созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния» (КЧР, A33/B49). Эти положения стали основой для многочисленных интерпретаций и критики в зарубежном кантоведении.
Классические интерпретации и критика.
Готлоб Фреге в работе «Основоположения арифметики» (1884) решительно отвергает психологизм, подчёркивая, что логические и математические истины не зависят от субъективного восприятия: «Число не есть ни что-то физическое, ни что-то психологическое, но нечто объективное и не зависящее от нашего мышления» (Введение, §1). Он критикует эмпириков вроде Дж. С. Милля, утверждая, что «если бы арифметические истины зависели от наблюдений, они были бы лишены всеобщности и необходимости» (§7), и указывает на опасность релятивизма: «Если истина – лишь продукт психических процессов, то она перестаёт быть общезначимой» (§27). При этом Фреге частично принимает кантовский априоризм, соглашаясь, что арифметические суждения априорны: «Арифметические истины не нуждаются в подтверждении опытом – они обладают необходимостью» (§3), но отвергает кантовское обоснование априорности через формы чувственности: «Кант недооценил роль чистой логики в обосновании арифметики» (§89). Он поддерживает тезис о синтетичности арифметики – «Кант был прав, утверждая, что арифметические суждения синтетичны, но его аргументация нуждается в исправлении» (§88) – однако вместо кантовской интуиции времени предлагает логическое обоснование: «Число – это не интуитивное представление, а логический объект» (§62). Расхождение с Кантом проявляется в программе логицизма: Фреге стремится свести арифметику к логике, утверждая, что «арифметика – это развитая логика, и её истины аналитичны в расширенном смысле» (§87), тогда как Кант видел в операциях с числами синтетическую роль временной интуиции. Хотя позднее логицизм столкнулся с парадоксами (например, парадоксом Рассела), фрегевская критика психологизма и переосмысление кантовского априоризма заложили основы аналитической философии и современной философии математики, сохранив кантовское разделение априорного и апостериорного, но перенеся акцент с трансцендентальной субъективности на объективность логических структур.
В своей работе «Кант и Марбургская школа» (1912) Пауль Наторп радикально переосмысливает кантовскую концепцию форм созерцания, утверждая, что пространство и время – это не пассивные априорные схемы, организующие чувственные данные, а активные методы конструирования опыта, порождаемые самим процессом научного познания. На с. 12–13 он прямо заявляет: «Кантовские формы созерцания – вовсе не готовые, раз навсегда данные схемы, которые лишь пассивно упорядочивают ощущения. Они суть активные способы конструирования самого объекта познания. Пространство и время – не предпосылки, а результаты работы мысли». Этот тезис означает фундаментальный сдвиг в понимании трансцендентальной эстетики: если у Канта чувственность и рассудок были разделены, то Наторп подчиняет чувственное начало логике научного мышления, утверждая на с. 28, что «То, что Кант называл "созерцанием", на деле есть лишь начальная, ещё не рефлектированная ступень логического определения. Чувственность не противоположна мышлению – она есть его неразвитая форма». В качестве примера Наторп обращается к математике, показывая на с. 45–46, как дифференциальное исчисление конструирует временные отношения: «Когда физик описывает движение через дифференциальные уравнения, он не "накладывает" готовые формы пространства-времени на явления, а конструирует их отношения. Время здесь – не интуиция, а переменная величина, определяемая системой уравнений». Этот подход не только предвосхищает теорию относительности Эйнштейна, но и находит развитие у Эрнста Кассирера, который в «Познании и действительности» (1907, с. 112) пишет: «Неокантианство преодолело миф о "непосредственной данности" – даже "здесь и сейчас" опосредовано символическими формами науки». Таким образом, Наторп и Марбургская школа трансформируют кантовскую трансцендентальную эстетику в логику научного конструирования, где пространство и время становятся не предзаданными формами, а динамическими методами объективации, чувственность оказывается подчинённой мышлению, а наука выступает не как описание, а как активное конструирование реальности через категориальные структуры, что оказало значительное влияние на последующее развитие философии науки.
Аналитическая философия и логический позитивизм.
Логические позитивисты (Р. Карнап, М. Шлик) отвергли кантовский синтетический априори, сводя априорное к аналитическим истинам. Карнап писал:
«Кантовское различение априорного и апостериорного должно быть заменено различием между аналитическими и синтетическими предложениями» (Carnap, «Логический синтаксис языка», 1934).
Логические позитивисты, такие как Рудольф Карнап и Мориц Шлик, радикально пересмотрели кантовскую концепцию синтетического априори, утверждая, что априорное знание сводится исключительно к аналитическим истинам, которые истинны в силу своей логической формы и не зависят от опыта. Карнап прямо отвергал кантовское различение априорного и апостериорного, предлагая вместо него дихотомию аналитических и синтетических высказываний. В работе «Логический синтаксис языка» (1934) он писал: «Кантовское различение априорного и апостериорного должно быть заменено различием между аналитическими и синтетическими предложениями» (Carnap, «Логический синтаксис языка», 1934, с. 284). Аналитические предложения, по мнению Карнапа, тавтологичны и не несут нового знания, тогда как синтетические зависят от эмпирической проверки. Шлик также подчеркивал, что «все априорные утверждения являются аналитическими и, следовательно, не расширяют нашего знания» (Schlick, «Общие положения познания», 1918, с. 156). Таким образом, логические позитивисты отрицали возможность синтетического априори, утверждая, что любое значимое знание либо аналитично, либо эмпирически проверяемо. Однако Карл Поппер в своей работе «Логика научного открытия» (1934) критиковал этот чисто эмпирический подход, указывая на то, что наблюдение никогда не бывает нейтральным и всегда зависит от теоретических предпосылок. Он писал: «Наблюдение всегда теоретически нагружено… Никакой "чистый опыт" невозможен, что сближает мою позицию с кантовским априоризмом, хотя я отвергаю его неизменность» (Popper, «Логика научного открытия», 1934, с. 93). Поппер соглашался с Кантом в том, что познание не сводится к пассивному восприятию данных, но отвергал представление о неизменных априорных структурах разума, подчеркивая гипотетический и фаллибилистский характер научного знания. В отличие от логических позитивистов, он утверждал, что даже базовые научные утверждения не могут быть полностью верифицированы, а лишь опровергнуты, что ставило под сомнение их строгое разделение на аналитические и синтетические суждения. Таким образом, критика Поппера затрагивала не только эмпиризм позитивистов, но и их трактовку априорного знания, предлагая более динамичную модель научного познания, в которой теоретические предпосылки играют активную роль, но остаются открытыми для пересмотра.
Феноменология и герменевтика.
Эдмунд Гуссерль, развивая феноменологию, радикально переосмыслил кантовские идеи, сместив акцент с трансцендентальных условий познания на активную роль сознания в конституировании смыслов. В работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936) он пишет: «Кантовское "трансцендентальное" – это не просто форма познания, но поле конституирования смыслов в сознании» (S. 176). Гуссерль критикует Канта за остаточный натурализм, утверждая, что тот не до конца освободился от естественной установки: «Кант остаётся пленником психологизма, поскольку его трансцендентальный субъект ещё несёт в себе черты эмпирического субъекта» (S. 212). В отличие от Канта, Гуссерль видит задачу феноменологии в раскрытии «чистого поля имманентности, где объективность творится в актах сознания» (S. 189). Он подчёркивает, что «трансцендентальная субъективность – это не абстрактный конструкт, а живая ткань интенциональных переживаний» (S. 203), отвергая кантовское разделение на феномены и ноумены: «Различие между "вещами-в-себе" и "явлениями" теряет смысл, когда сама объективность понимается как коррелят интенциональных актов» (S. 225). При этом Гуссерль признаёт влияние Канта: «Без кантовского поворота к субъекту феноменология была бы невозможна, но лишь как радикализация его интуиций» (S. 198). Ключевое расхождение – в трактовке априори: для Канта это «форма всеобщности», для Гуссерля – «сущностная необходимость, данная в эйдетической интуиции» (S. 217). Итогом становится переопределение трансцендентального: «Трансцендентальное – не условие возможности опыта, а его конституирующая основа в потоке сознания» (S. 231).
Ханс-Георг Гадамер в «Истине и методе» (1960) последовательно развивает критику кантовского подхода к эстетике, показывая, что Кант, несмотря на свою революционную роль в философии, радикально сузил понимание искусства, замкнув его в сфере субъективного переживания. Гадамер пишет: «Кант в "Критике способности суждения" свел эстетическое суждение к "незаинтересованному удовольствию", тем самым вырвав его из контекста исторической традиции и культурного опыта» (Gadamer, 1960, S. 45). Это, по мнению Гадамера, привело к тому, что эстетика стала рассматриваться исключительно в терминах индивидуального вкуса, а не как форма познания, укорененная в бытии.
Гадамер подчеркивает, что кантовский субъективизм игнорирует «онтологическую значимость искусства» (Gadamer, 1960, S. 87). В отличие от Канта, для которого эстетическое суждение есть лишь рефлексия субъекта о собственных чувствах, Гадамер утверждает, что «произведение искусства говорит нам нечто истинное, и это истинное не может быть сведено к субъективному переживанию» (Gadamer, 1960, S. 92). Искусство, по Гадамеру, есть «событие бытия», которое требует не просто оценки, но понимания, всегда исторически обусловленного.
Ключевым моментом гадамеровской критики является его тезис о том, что «эстетическое сознание, как его понимал Кант, абстрагируется от действенно-исторического контекста» (Gadamer, 1960, S. 95). В противовес этому Гадамер вводит понятие «герменевтического круга», в котором интерпретация произведения всегда опосредована предпониманием, традицией и языком. Он пишет: «Тот, кто пытается понять произведение искусства, всегда уже находится внутри традиции, которая определяет его вопросы и ожидания» (Gadamer, 1960, S. 305).
Гадамер преодолевает кантовский субъективизм, показывая, что эстетический опыт неотделим от исторического опыта. «Истина искусства раскрывается не в изолированном созерцании, а в диалоге с традицией» (Gadamer, 1960, S. 115). В этом смысле герменевтика Гадамера восстанавливает связь между искусством и истиной, которую Кант, по его мнению, разорвал, ограничив эстетику сферой субъективного суждения.
Современные интерпретации в англоязычном кантоведении.
1. В работе «Границы смысла» (1966) Питер Фредерик Строссон развивает проект «дескриптивной метафизики», переосмысливая кантовский априоризм через призму лингвистического и концептуального анализа. Он утверждает, что Кант был прав, рассматривая пространство и время как условия возможности опыта, однако их статус, по мнению Строссона, требует не трансцендентального обоснования, а анализа их роли в структуре нашего мышления и языка. «Кант прав в том, что пространство и время – условия возможности опыта, но их статус требует не трансцендентального, а концептуального анализа» (Strawson, 1966, p. 72).
Строссон критикует кантовский дуализм явлений и вещей-в-себе, утверждая, что «различение между феноменами и ноуменами не может быть последовательно проведено, поскольку сама идея непознаваемой реальности лишена содержания для нас» (Strawson, 1966, p. 38). Вместо этого он предлагает сосредоточиться на «структуре нашего концептуального аппарата, который определяет, как мы воспринимаем и описываем мир» (Strawson, 1966, p. 45).
Центральным для его подхода является анализ «базисных понятий», таких как идентичность, объективность и причинность. Он пишет: «Наша способность мыслить объекты как существующие независимо от нас коренится не в трансцендентальных условиях, а в логике нашего языка и практики» (Strawson, 1966, p. 89). В отличие от Канта, Строссон отвергает необходимость «трансцендентального субъекта», утверждая, что «единство сознания может быть объяснено через публично разделяемые концептуальные схемы» (Strawson, 1966, p. 112).
Дескриптивная метафизика Строссона представляет собой попытку «прояснить фундаментальные категории, через которые мы осмысляем реальность, без обращения к спекулятивным метафизическим конструкциям» (Strawson, 1966, p. 15). Его подход подчеркивает, что «философия должна описывать, а не изобретать структуры нашего мышления» (Strawson, 1966, p. 24), что делает его проект важным шагом в развитии аналитической философии XX века.
2. Джон Макдауэлл в своей работе «Сознание и мир» (Mind and World, 1994) предпринимает попытку синтеза кантовской философии с современной аналитической традицией, преодолевая разрыв между эмпиризмом и концептуализмом. Центральный тезис Макдауэлла заключается в том, что опыт изначально концептуален, а не является «сырым» чувственным данным, которое лишь потом организуется рассудком. Он утверждает: «Мы должны отказаться от идеи, что в опыте есть неконцептуальное содержание, которое затем "одевается" в концептуальные формы» (McDowell, 1994, p. 9). Эта позиция радикально переосмысляет кантовское различие между чувственностью и рассудком: вместо того чтобы рассматривать пространство и время как пассивные формы созерцания, Макдауэлл интерпретирует их как активные способы организации опыта, уже пронизанные концептуальностью.
Ключевая цитата, отражающая его подход: «Кантовские формы созерцания – это не "данность", а способы, которыми мы спонтанно структурируем опыт» (McDowell, 1994, p. 26). Здесь Макдауэлл подчеркивает, что даже на уровне восприятия мы уже вовлечены в спонтанную деятельность рассудка, а не просто пассивно регистрируем внешние воздействия. Это позволяет ему избежать «мифа данного» – идеи, будто опыт предоставляет нам некие независимые от мышления «факты», которые затем интерпретируются. Вместо этого он настаивает: «Опыт – это открытость миру, а мир уже концептуально структурирован» (McDowell, 1994, p. 34).
Критикуя редуктивные натуралистические теории сознания, Макдауэлл утверждает, что человеческое восприятие невозможно свести к чисто каузальным процессам, поскольку оно всегда уже включено в «пространство причин» (space of reasons), где значимость имеют не просто физические события, но их обоснованность и связь с другими убеждениями. «Перцептивный опыт не просто вызывает в нас убеждения – он предоставляет основания для них» (McDowell, 1994, p. 62). Таким образом, его проект направлен на преодоление дуализма природы и культуры, показывая, что даже самые базовые формы восприятия всегда уже опосредованы языком и социальными практиками.
Макдауэлл также полемизирует с Дэвидсоном, отвергая его тезис о «третьем догмате эмпиризма» – идее, что между концептуальной схемой и эмпирическим содержанием существует непреодолимый разрыв. «Дэвидсон прав, отвергая дуализм схемы и содержания, но он ошибочно полагает, что это требует отказа от самой идеи эмпирического содержания» (McDowell, 1994, p. 72). Вместо этого Макдауэлл предлагает «натурализованный» вариант кантовского трансцендентализма, где концептуальные способности понимаются как часть нашей биологической природы, но при этом не сводятся к механистическим объяснениям. «Наша рациональность – это не что-то надстроенное над природой, а сама природа, достигшая в нас самосознания» (McDowell, 1994, p. 115).
Этот синтез Канта и аналитической философии позволил Макдауэллу предложить оригинальное решение проблемы соотношения сознания и мира, избегая как наивного реализма, так и радикального конструктивизма. «Мир не навязывает нам свою структуру, но и не является продуктом нашей произвольной деятельности – он раскрывается в диалектике восприятия и мышления» (McDowell, 1994, p. 142).
3. Роберт Ханна в своей работе «Кант и основания когнитивной науки» (2001) предлагает натурализированное прочтение кантовской философии, утверждая, что априорные формы чувственности и рассудка могут быть интерпретированы в терминах современных когнитивных наук. Ханна пишет: «Кантовские априорные формы можно интерпретировать как когнитивные модули, эволюционно обусловленные» (Hanna, 2001, p. 45), подчеркивая тем самым, что пространство и время как априорные формы чувственности, а также категории рассудка могут рассматриваться как результат биологической и когнитивной эволюции. Он развивает эту идею далее, утверждая: «Трансцендентальные структуры, описанные Кантом, не являются метафизически данными, но могут быть объяснены через их функциональную роль в когнитивной архитектуре человеческого разума» (Hanna, 2001, p. 78). Это позволяет, по мнению Ханны, переосмыслить кантовский априоризм в контексте естественнонаучного подхода, избегая при этом традиционных споров о его идеалистической или реалистической интерпретации. Ханна также указывает на связь между кантовскими идеями и современными теориями модулярности сознания: «Если категории рассудка и формы чувственности понимать как когнитивные модули, то кантовская теория становится предвосхищением современных представлений о специализированных нейронных системах» (Hanna, 2001, p. 112). При этом он не отрицает нормативного измерения кантовской философии, но настаивает на том, что «натурализация Канта не означает редукции его трансцендентального проекта к чисто эмпирическому объяснению, но открывает новые пути для синтеза философского и научного знания» (Hanna, 2001, p. 145). Таким образом, Ханна предлагает переосмыслить кантовский априоризм через призму эволюционной эпистемологии и когнитивной науки, что позволяет, по его мнению, сохранить значимость кантовских идей для современной философии сознания.
4. В работе «Трансцендентальный идеализм Канта» (2015) Люси Аллэйс последовательно отстаивает «двухаспектную» интерпретацию кантовской философии, подчеркивая, что пространство и время у Канта – это не иллюзии, а необходимые условия человеческого опыта, без которых эмпирическая реальность невозможна. Она пишет: «Пространство и время у Канта – не иллюзии, но необходимые условия, без которых эмпирическая реальность невозможна» (Allais, 2015, p. 45). Аллэйс настаивает на том, что трансцендентальный идеализм не отрицает реальность внешнего мира, а лишь утверждает его зависимость от наших познавательных структур: «Кант не считает, что вещи сами по себе не существуют; он лишь утверждает, что мы познаем их только так, как они нам являются, а не так, как они существуют независимо от нас» (Allais, 2015, p. 78).
Критикуя «феноменалистские» прочтения Канта, она утверждает, что вещи в себе играют важную роль в его системе, поскольку служат основанием для явлений: «Вещи в себе не являются излишним метафизическим допущением – они объясняют, почему наши восприятия не произвольны, а имеют объективную основу» (Allais, 2015, p. 112). При этом Аллэйс подчеркивает, что Кант не отождествляет явления с субъективными представлениями: «Явления – не просто наши идеи, а объективно значимые структуры опыта, обусловленные априорными формами чувственности» (Allais, 2015, p. 134).
Она также обращает внимание на то, что кантовский идеализм не сводится к солипсизму или субъективизму: «Трансцендентальный идеализм не отрицает реальность внешнего мира, а показывает, что его объективность возможна лишь благодаря априорным условиям познания» (Allais, 2015, p. 156). В заключение Аллэйс отмечает, что «двухаспектная интерпретация позволяет избежать крайностей как буквалистского реализма, так и радикального конструктивизма, сохраняя баланс между зависимостью опыта от субъекта и его объективной значимостью» (Allais, 2015, p. 189).









