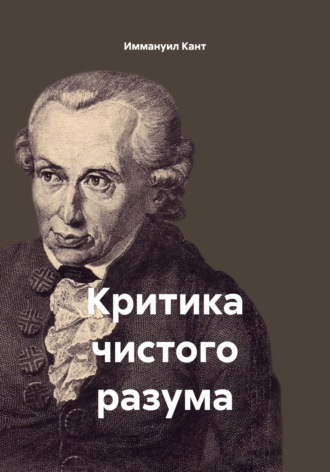
Полная версия
Критика чистого разума
Таблица категорий естественным образом подводит нас к
Таблице основоположений,
поскольку последние есть не что иное, как правила объективного применения первых. Таким образом, все основоположения чистого рассудка суть:
1. Аксиомы созерцания
2. Антиципации восприятия
3. Аналогии опыта
4. Постулаты эмпирического мышления вообще
Эти названия я выбрал осмотрительно, чтобы не упустить различия в очевидности и применении данных основоположений. Вскоре станет ясно, что основоположения, касающиеся величины и качества (если учитывать только их форму), заметно отличаются от двух остальных как в отношении очевидности, так и в отношении априорного определения явлений: первые обладают интуитивной, а вторые – лишь дискурсивной достоверностью, хотя и те и другие в равной мере несомненны. Поэтому я назову первые математическими, а вторые – динамическими основоположениями. Однако следует заметить, что здесь я рассматриваю не основоположения математики в одном случае и не основоположения общей (физической) динамики в другом, а лишь основоположения чистого рассудка в их отношении к внутреннему чувству (без различия между данными в нём представлениями), благодаря которым первые вообще становятся возможными. Таким образом, я называю их так скорее по способу применения, чем по содержанию, и теперь перейду к их рассмотрению в том же порядке, в каком они представлены в таблице.
Всякая связь (conjunctio) есть либо составление (compositio), либо соединение (nexus). Первое есть синтез многообразного, не принадлежащего друг другу с необходимостью, как, например, два треугольника, на которые делится квадрат диагональю, сами по себе не необходимы друг другу. Таков же синтез однородного во всём, что может быть рассмотрено математически (этот синтез, в свою очередь, делится на синтез агрегации и коалиции, из которых первый относится к экстенсивным, а второй – к интенсивным величинам). Второй вид связи (nexus) есть синтез многообразного, поскольку оно необходимо принадлежит друг другу, как, например, акциденция к субстанции или действие к причине, – то есть связь, которая, хотя и соединяет разнородное, мыслится априори. Поскольку эта связь не произвольна, я называю её динамической, ибо она касается связи существования многообразного (которая, в свою очередь, делится на физическую связь явлений между собой и метафизическую – их связь в познавательной способности априори).
1. Аксиомы созерцания.
Их принцип таков: Все созерцания суть экстенсивные величины.
Доказательство.
Все явления содержат по форме созерцание в пространстве и времени, лежащее в их основе априори. Они не могут быть восприняты (то есть приняты в эмпирическое сознание) иначе, как через синтез многообразного, посредством которого создаются представления определённого пространства или времени, то есть через составление однородного и сознание синтетического единства этого многообразного (однородного). Сознание многообразного однородного в созерцании вообще, поскольку благодаря ему впервые становится возможным представление объекта, есть понятие величины (quanti). Следовательно, даже восприятие объекта как явления возможно лишь через ту же самую синтетическую единство многообразного данной чувственной интуиции, посредством которого единство составления многообразного однородного мыслится в понятии величины. То есть все явления суть величины, причём экстенсивные величины, поскольку они как созерцания в пространстве или времени должны быть представлены через тот же синтез, каким определяются пространство и время вообще.
Экстенсивной величиной я называю такую, в которой представление частей делает возможным представление целого (и, следовательно, необходимо предшествует ему). Я не могу представить себе линию, как бы мала она ни была, не проводя её мысленно, то есть не производя постепенно все её части из одной точки и не изображая таким образом это созерцание. То же самое относится и к самой малой части времени: я мыслю в ней лишь последовательный переход от одного момента к другому, и только через сложение всех частей времени возникает определённая временная величина. Поскольку чистое созерцание во всех явлениях есть либо пространство, либо время, каждое явление как созерцание есть экстенсивная величина, ибо оно может быть познано только через последовательный синтез (от части к части) в восприятии. Таким образом, все явления созерцаются как агрегаты (множества данных заранее частей), что верно не для всякого рода величин, а только для тех, которые представляются и воспринимаются нами как экстенсивные.
На этом последовательном синтезе продуктивного воображения в создании фигур основывается математика протяжённости (геометрия) с её аксиомами, которые выражают априорные условия чувственного созерцания, при которых только и может возникнуть схема чистого понятия внешнего явления. Например: между двумя точками возможна только одна прямая; две прямые линии не могут заключить пространства и т. д. Это аксиомы, относящиеся собственно к величинам (quanta) как таковым.
О величине (quantitas).
Что касается величины (quantitas), то есть ответа на вопрос: «Как велико нечто?» – то, хотя некоторые утверждения о ней являются синтетическими и непосредственно достоверными (недоказуемыми), в строгом смысле аксиом здесь нет. Например, суждение «Если к равному прибавить равное или отнять равное, получится равное» – аналитическое, поскольку я непосредственно осознаю тождественность одного образования величины другому. Аксиомы же должны быть синтетическими априорными суждениями.
Напротив, очевидные положения о числовых отношениях, хотя и синтетичны, не обладают всеобщностью, как положения геометрии, и потому не могут называться аксиомами – их скорее можно назвать числовыми формулами. Суждение «7 + 5 = 12» не аналитично, так как ни в представлении о 7, ни в представлении о 5, ни в представлении об их сложении я не мыслю числа 12 (вопрос о том, что я должен мыслить его при сложении, здесь не рассматривается, ибо аналитическое суждение лишь спрашивает, содержится ли предикат в субъекте). Однако, хотя оно синтетично, это лишь единичное суждение. Поскольку здесь имеется в виду лишь синтез однородного (единиц), он может происходить только одним способом, хотя применение этих чисел впоследствии универсально.
Если я скажу: «Треугольник можно построить из трёх линий, две из которых в сумме больше третьей», – то здесь я выражаю лишь функцию продуктивного воображения, которое может проводить линии длиннее или короче и соединять их под любыми углами. Напротив, число 7 возможно только одним способом, как и число 12, получаемое синтезом 7 и 5. Такие суждения нельзя называть аксиомами (инако их было бы бесконечно много), а лишь числовыми формулами.
Трансцендентальный принцип математики явлений.
Этот принцип значительно расширяет наше априорное знание, ибо только он позволяет приложить чистую математику во всей её точности к предметам опыта. Без него это было бы далеко не очевидно и даже вызывало бы противоречия. Явления – не вещи сами по себе. Эмпирическое созерцание возможно только благодаря чистому (пространству и времени), поэтому то, что геометрия говорит о последнем, безусловно применимо и к первому. Отговорки, будто предметы чувств не обязаны соответствовать правилам пространственного построения (например, бесконечной делимости линий или углов), несостоятельны, ибо они лишают пространство, а с ним и всю математику объективной значимости, и тогда непонятно, почему и в каких пределах математика применима к явлениям.
Синтез пространства и времени как основных форм всякого созерцания делает возможным восприятие явлений, а значит, и всякий внешний опыт, а следовательно, и познание его объектов. То, что математика доказывает в чистом применении к пространству и времени, необходимо применимо и к явлениям. Все возражения против этого – лишь уловки ложно направленного разума, который ошибочно пытается оторвать предметы чувств от формальных условий нашей чувственности и представить их – хотя они лишь явления – как данные рассудку вещи сами по себе. В таком случае о них действительно нельзя было бы ничего познать априори, а значит, и синтетически через чистые понятия пространства, и наука, их определяющая (геометрия), была бы невозможна.
2. Антиципации восприятия.
Их принцип таков: Во всех явлениях реальное, являющееся объектом ощущения, имеет интенсивную величину, то есть степень.
Доказательство.
Восприятие – это эмпирическое сознание, то есть такое, в котором присутствует ощущение. Явления как объекты восприятия – не чистые (лишь формальные) созерцания, как пространство и время (их ведь нельзя воспринять самих по себе). Они содержат, помимо созерцания, ещё и материю для какого-либо объекта вообще (через которую в пространстве или времени представляется нечто существующее), то есть реальное ощущения – лишь субъективное представление, о котором можно знать лишь то, что субъект им затронут, и которое относят к объекту вообще.
От эмпирического сознания возможен постепенный переход к чистому, где реальное полностью исчезает, и остаётся лишь формальное (априорное) сознание многообразия в пространстве и времени. Таким образом, возможен и синтез образования величины ощущения – от его начала (чистого созерцания = 0) до любой его величины. Поскольку ощущение само по себе не является объективным представлением и в нём нет ни пространства, ни времени, оно не имеет экстенсивной величины, но имеет величину интенсивную (через его восприятие, в котором эмпирическое сознание может вырасти за некоторое время от 0 до данной меры). Соответственно, всем объектам восприятия, поскольку они содержат ощущение, должна приписываться интенсивная величина, то есть степень воздействия на чувства.
Антиципации.
Всякое познание, позволяющее априори узнавать и определять то, что принадлежит к эмпирическому познанию, можно назвать антиципацией. Именно в этом смысле Эпикур употреблял свой термин «пролепсис». Но поскольку в явлениях есть нечто, что никогда не познаётся априори и составляет подлинное отличие эмпирического от априорного познания (а именно ощущение как материя восприятия), то именно оно не может быть антиципировано.
Зато чистые определения пространства и времени – как формы, так и величины – можно назвать антиципациями явлений, ибо они представляют априори то, что всегда может быть дано апостериори в опыте. Однако если найдётся нечто, что можно познать априори в каждом ощущении как таковом (безотносительно к его конкретному виду), то это заслуживает названия антиципации в исключительном смысле, ибо кажется удивительным предвосхищать опыт в том, что касается его материи, которую можно получить только из него. И здесь это действительно так.
Интенсивная величина.
Восприятие через ощущение заполняет лишь один момент (если не учитывать последовательность многих ощущений). Как нечто в явлении, чьё восприятие не есть последовательный синтез (переход от частей к целому), оно не имеет экстенсивной величины. Отсутствие ощущения в данный момент представило бы его как пустой, то есть = 0.
То, что в эмпирическом созерцании соответствует ощущению, есть реальность (realitas phaenomenon); то, что соответствует его отсутствию, – отрицание = 0. Но всякое ощущение способно уменьшаться, так что может постепенно исчезнуть. Поэтому между реальностью в явлении и отрицанием существует непрерывная связь множества возможных промежуточных ощущений, разница между которыми всегда меньше, чем между данной реальностью и нулём (полным отрицанием). То есть реальное в явлении всегда имеет величину, но не экстенсивную (поскольку восприятие происходит мгновенно, а не через последовательный синтез).
Величину, которая воспринимается только как единица и в которой множество может быть представлено лишь через приближение к нулю, я называю интенсивной величиной. Следовательно, всякая реальность в явлении имеет интенсивную величину, то есть степень.
Если рассматривать эту реальность как причину (например, ощущения или другой реальности в явлении, как изменения), то степень реальности как причины называется моментом (например, момент тяжести), ибо степень обозначает величину, воспринимаемую не последовательно, а мгновенно.
Таким образом, всякое ощущение, а значит, и всякая реальность в явлении, как бы мала она ни была, имеет степень, то есть интенсивную величину, которая может уменьшаться. Между реальностью и отрицанием существует непрерывная связь возможных реальностей и возможных меньших восприятий. Например, любой цвет, скажем красный, имеет степень, которая, как бы мала ни была, никогда не бывает наименьшей; то же относится к теплу, моменту тяжести и т. д.
Континуальность величин.
Свойство величин, согласно которому ни одна их часть не является наименьшей (нет простых частей), называется их непрерывностью. Пространство и время – кванта континуа, ибо ни одна их часть не может быть дана иначе, как между границами (точками и моментами), то есть так, что эта часть сама есть пространство или время. Пространство состоит только из пространств, время – из времён. Точки и моменты – лишь границы, то есть места их ограничения; но места всегда предполагают те созерцания, которые они ограничивают, и из одних лишь мест (как компонентов, данных до пространства или времени) нельзя составить ни пространства, ни времени. Такие величины можно также назвать текучими, ибо их синтез (продуктивного воображения) в порождении есть прогресс во времени, непрерывность которого обычно обозначают выражением «течение».
Итог.
Все явления вообще суть непрерывные величины:
– как созерцания – экстенсивные,
– как восприятия (ощущения, а значит, реальности) – интенсивные.
Если синтез многообразия явления прерывается, то это агрегат многих явлений, а не явление как квант, который порождается не просто продолжением продуктивного синтеза, а повторением завершающегося синтеза.
Например, если я называю 13 талеров денежной суммой, то это верно, если я имею в виду содержание марки чистого серебра (которая есть непрерывная величина, где нет наименьшей части). Но если я подразумеваю 13 монет (вне зависимости от их серебра), то правильнее назвать это агрегатом, то есть числом монет.
Поскольку в основе всякого числа лежит единство, явление как единство есть квант и как таковое всегда континуум.
Если все явления, рассматриваемые как в экстенсивном, так и в интенсивном отношении, суть непрерывные величины, то положение, что всякое изменение (переход вещи из одного состояния в другое) также непрерывно, могло бы быть здесь легко доказано с математической очевидностью, если бы причинность изменения вообще не лежала совершенно за пределами трансцендентальной философии и не предполагала эмпирических принципов.
То, что возможна причина, изменяющая состояние вещей, то есть определяющая их к противоположности данного состояния, – этого рассудок a priori нам вовсе не раскрывает, и не только потому, что он вовсе не усматривает возможности этого (ведь такое усмотрение отсутствует у нас во многих априорных познаниях), но потому, что изменяемость касается лишь определенных свойств явлений, которые может открыть только опыт, тогда как их причина должна находиться в неизменном.
Но поскольку здесь у нас нет ничего, чем мы могли бы воспользоваться, кроме чистых основоположений всякого возможного опыта, среди которых не должно быть ничего эмпирического, мы, не нарушая единства системы, не можем забегать вперед перед общей естественной наукой, которая строится на определенных основных опытах.
Тем не менее, у нас не недостает доказательств того большого влияния, которое имеет этот наш принцип – предвосхищать восприятия и даже восполнять их недостаток, настолько, что он преграждает путь всем ложным умозаключениям, которые могли бы быть из этого сделаны.
Если всякая реальность в восприятии имеет степень, между которой и отрицанием существует бесконечный ряд все меньших степеней, и если каждый чувственный орган должен иметь определенную степень восприимчивости к ощущениям, то никакое восприятие, а следовательно, и никакой опыт не могут доказать полное отсутствие всего реального в явлении – будь то непосредственно или опосредованно (какими бы окольными умозаключениями это ни пытались обосновать).
То есть из опыта никогда нельзя извлечь доказательство пустого пространства или пустого времени.
Во-первых, полное отсутствие реального в чувственном созерцании само по себе не может быть воспринято. Во-вторых, оно не может быть выведено ни из одного явления и различия степени его реальности, а также никогда не должно приниматься для объяснения.
Ведь даже если все созерцание определенного пространства или времени сплошь реально (то есть ни одна его часть не пуста), все же, поскольку всякая реальность имеет свою степень, которая при неизменной экстенсивной величине явления может убывать вплоть до ничто (пустоты) через бесконечные ступени, должны существовать бесконечно различные степени, которыми пространство или время могут быть заполнены, и интенсивная величина в разных явлениях может быть больше или меньше, хотя экстенсивная величина созерцания остается той же.
Приведем пример.
Почти все физики, замечая значительное различие в количестве материи разного рода при одинаковом объеме (частично через момент тяжести, или веса, частично через момент сопротивления другим движущимся материям), единогласно заключают, что этот объем (экстенсивная величина явления) должен во всех материях, хотя и в разной степени, содержать пустоту.
Но кто из этих, по большей части математически и механически мыслящих естествоиспытателей, когда-либо догадывался, что они основывают этот вывод исключительно на метафизическом предположении, которого они так стараются избегать?
Они предполагают, что реальное в пространстве (я не хочу называть это здесь непроницаемостью или весом, так как это эмпирические понятия) везде одинаково и может различаться лишь по экстенсивной величине, то есть по количеству.
Этому предположению, для которого у них не могло быть основания в опыте и которое, следовательно, чисто метафизично, я противопоставляю трансцендентальное доказательство. Оно не призвано объяснять различие в наполнении пространств, но полностью устраняет мнимую необходимость этого предположения, будто бы иначе нельзя объяснить указанное различие, кроме как допущением пустых пространств.
Оно имеет ту заслугу, что по крайней мере освобождает рассудок, позволяя ему мыслить это различие иным образом, если объяснение природы когда-либо потребует для этого какой-либо гипотезы.
Ведь мы видим, что хотя равные пространства могут быть полностью заполнены разными материями так, что ни в одном из них нет точки, где бы не присутствовала их реальность, тем не менее, всякое реальное при одинаковом качестве имеет свою степень (сопротивления или веса), которая может уменьшаться до бесконечности, не сокращая экстенсивной величины или количества, прежде чем перейдет в пустоту и исчезнет.
Так, например, расширение, заполняющее пространство (теплота), и точно так же всякая другая реальность (в явлении) может бесконечно уменьшаться в своих степенях, ни в малейшей степени не оставляя пустоты в пространстве, и тем не менее заполнять пространство этими меньшими степенями так же, как и другое явление – большими.
Моя цель здесь вовсе не утверждать, что дело обстоит именно так в случае различия материй по их удельной тяжести, а лишь показать, исходя из принципа чистого рассудка, что природа наших восприятий делает такой способ объяснения возможным и что ошибочно принимать реальное в явлении одинаковым по степени и различным лишь по агрегации и экстенсивной величине – и даже, якобы, априори утверждать это на основании принципа рассудка.
Тем не менее, эта антиципация восприятия всегда содержит нечто поразительное для исследователя, привыкшего к трансцендентальным размышлениям и ставшего благодаря этому осторожным, и вызывает некоторое сомнение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









