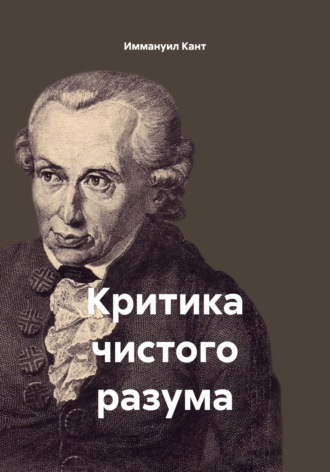
Полная версия
Критика чистого разума
– Куайн в «Двух догмах эмпиризма» (1951) отверг аналитико-синтетическое различение, подорвав основы кантовского априоризма.
В работе «Две догмы эмпиризма» (1951) Уиллард Ван Орман Куайн подверг радикальной критике традиционное различие между аналитическими и синтетическими суждениями, что имело далеко идущие последствия для философии, в частности для кантовского априоризма. Куайн утверждал, что это различие, восходящее к Канту и воспринятое логическими позитивистами, лишено четких оснований и является «догмой эмпиризма». Он писал: «Разграничение аналитических и синтетических истин, которое было неявным у Лейбница и Юма, явным у Канта и которое с тех пор оставалось общепринятым, является догмой эмпиризма, метафизической статьей веры» (Куайн, «Две догмы эмпиризма», §1).
Куайн показал, что понятие аналитичности, определяемое через «истинность в силу значений» или «сведение к логическим истинам посредством подстановки синонимов», страдает круговостью. Например, объяснение аналитичности через синонимию само требует предварительного понимания аналитичности: «Мы не объяснили аналитичность утверждения посредством синонимии, а лишь заменили одну проблему другой» (там же, §2).
Критика Куайна подрывала кантовскую концепцию априорного знания, поскольку Кант опирался на различие аналитических (раскрывающих содержание понятий) и синтетических (расширяющих знание) суждений. Если это различие несостоятельно, то и априорный статус аналитических истин (например, математических) ставится под сомнение. Куайн предлагал холизм: «Наши высказывания о внешнем мире предстают перед судом чувственного опыта не индивидуально, а лишь как корпоративное целое» (там же, §6). Это означало, что даже законы логики могут пересматриваться под давлением опыта, что радикально противоречило кантовскому априоризму.
Таким образом, Куайн не просто отверг одну из ключевых дихотомий философии, но и показал, что эмпиризм без догм требует отказа от жесткого противопоставления априорного и апостериорного, что повлияло на дальнейшее развитие аналитической философии и философии науки.
– Майкл Фридман в «Динамике разума» (2001) предложил историзированный априоризм:
Майкл Фридман в своей работе «Динамика разума» (2001) развивает концепцию историзированного априоризма, переосмысляя кантовские априорные принципы в контексте исторического развития науки. Он утверждает, что априорные структуры, которые Кант считал неизменными, на самом деле трансформируются вместе с научными революциями, оставаясь при этом необходимыми условиями возможности научного знания. Фридман пишет: «Кантовские априорные принципы эволюционируют вместе с наукой, оставаясь условиями её возможности» (Friedman, 2001, p. 45). Эта идея противопоставляется классическому кантианству, где априорные формы чувственности и рассудка (пространство, время, категории) рассматриваются как статичные. Фридман подчёркивает, что «историческое изменение научных теорий требует пересмотра самих условий их обоснования» (p. 67), и приводит примеры из истории физики: переход от ньютоновской механики к теории относительности Эйнштейна сопровождался изменением априорных структур – например, понятия абсолютного пространства и времени уступили место реляционным концепциям. При этом, как отмечает Фридман, «новые априорные принципы не отменяют старые полностью, но переинтерпретируют их в более широком контексте» (p. 89). Он также анализирует роль математики в этом процессе, утверждая, что «математические формализмы служат мостом между изменяющимися априорными принципами и эмпирическим содержанием науки» (p. 112). Критикуя релятивизм, Фридман настаивает, что историзированный априоризм сохраняет нормативность: «Эволюция априорного не означает его произвольности – каждый этап задаёт строгие рамки для научной рациональности» (p. 134). Влияние этой концепции прослеживается в современных дискуссиях о философии науки, особенно в работах, посвящённых проблеме обоснования математики и физики.
Ключевые исследования трансцендентальной эстетики Канта в «Кантовском сборнике».
В «Кантовском сборнике» на протяжении многих лет публиковались статьи, посвящённые трансцендентальной эстетике Канта, её интерпретациям и критике. Вот некоторые ключевые работы с краткими содержательными обзорами:
1. Леонид Калинников. «Трансцендентальная эстетика Канта и проблема пространства и времени» (1977, № 2)
Автор анализирует кантовское понимание пространства и времени как априорных форм чувственности, подчёркивая их роль в структурировании опыта. Калинников рассматривает возражения Лейбница и Ньютона, а также показывает, как Кант преодолевает дуализм эмпирического и рационального в теории познания. Особое внимание уделяется связи трансцендентальной эстетики с математикой (геометрией и арифметикой), поскольку, согласно Канту, именно чистое созерцание делает возможными синтетические априорные суждения.
2. Валерий Саликов. «Трансцендентальная эстетика и современная философия сознания» (1995, № 18)
Саликов исследует актуальность кантовских идей для когнитивных наук и феноменологии. Он сопоставляет кантовское учение о чувственности с концепциями восприятия у Гуссерля и Мерло-Понти, показывая, как априорные формы созерцания могут быть переосмыслены в контексте современной философии сознания. Автор также критически оценивает натуралистические трактовки пространства и времени, отстаивая трансцендентальный подход.
3. Сергей Чернов. «Кант и неокантианцы: спор о природе трансцендентального» (2003, № 24)
Чернов рассматривает интерпретации трансцендентальной эстетики в Марбургской (Коген, Наторп) и Баденской (Виндельбанд, Риккерт) школах неокантианства. Автор показывает, как марбуржцы сводили чувственность к логическим структурам, отрицая её самостоятельность, в то время как баденцы акцентировали ценностный аспект познания. Статья демонстрирует, что критика неокантианцами кантовской эстетики привела к пересмотру её места в системе трансцендентальной философии.
4. Наталья Бондаренко. «Трансцендентальная эстетика и искусство: от Канта к авангарду» (2010, № 32)
Бондаренко исследует влияние кантовской эстетики (не только трансцендентальной, но и «Критики способности суждения») на теорию искусства. Автор показывает, как идеи априорных форм восприятия нашли отражение в эстетике модернизма и авангарда (например, у Малевича и Кандинского). Особый интерес представляет анализ того, как трансцендентальный субъект становится условием возможности художественного опыта.
5. Дмитрий Шульга. «Проблема объективности пространства и времени в посткантовской философии» (2018, № 45)
Шульга рассматривает критику кантовской трансцендентальной эстетики в философии XX века, особенно у Хайдеггера и Деррида. Автор показывает, как Хайдеггер переосмысливает время как экзистенциальную структуру, а Деррида деконструирует саму идею априорных форм. В статье также обсуждается, сохраняет ли кантовский подход актуальность в эпоху релятивистской физики и нелинейных концепций времени.
Обобщение трактовок кантоведов §1–8 «Трансцендентальной эстетики» Канта.
В «Трансцендентальной эстетике» Канта (§1–8 «Критики чистого разума») пространство и время трактуются как априорные формы чувственности, обладающие трансцендентальной идеальностью (не существуют независимо от субъекта) и эмпирической реальностью (объективны в рамках опыта). Это положение вызвало множество интерпретаций и споров среди кантоведов. Отечественные исследователи, такие как А.И. Введенский и В.Ф. Асмус, подчёркивают революционность кантовского подхода, противопоставляя его ньютоновскому абсолютному пространству и времени и лейбницевскому реляционизму. Введенский акцентирует, что Кант не просто утверждает априорность этих форм, но показывает их как условия возможности опыта, отвергая при этом их онтологизацию в духе Платона или Декарта. Асмус, в свою очередь, защищает Канта от обвинений в субъективном идеализме, утверждая, что трансцендентальный идеализм не отрицает реальность вещей в себе, но ограничивает познание сферой явлений, организованных пространством и временем.
Зарубежные интерпретации демонстрируют большее разнообразие подходов. Питер Строссон в «Границах смысла» критикует Канта за резкое разделение явлений и вещей в себе, считая его метафизически неоправданным, и предлагает более умеренную версию трансцендентального анализа, где априорные структуры не отрываются от реальности. Генри Эллисон, напротив, защищает Канта, предлагая «двухаспектную» интерпретацию: явления и вещи в себе – не две разные реальности, а два способа рассмотрения одного объекта. Эллисон настаивает на эпистемологическом, а не онтологическом характере этого различия, что позволяет избежать традиционных парадоксов кантовской системы.
Ключевой спор касается природы априорного знания. Если классические рационалисты (Декарт, Лейбниц) и эмпирики (Локк, Юм) противопоставляли априорное и эмпирическое, то Кант, по мнению большинства исследователей, синтезирует эти подходы, показывая, что априорные формы структурируют эмпирическое содержание. Однако логические позитивисты (Карнап) отвергают кантовский синтетический априори, сводя априорное к аналитическим истинам, а современные авторы, такие как Майкл Фридман, предлагают историзированную версию априоризма, где принципы познания эволюционируют вместе с наукой.
Современные трактовки демонстрируют тенденцию к натурализации (Роберт Ханна) или интеграции Канта в аналитическую философию (Джон Макдауэлл). Люси Аллэйс, например, развивает идеи Эллисона, подчёркивая, что пространство и время у Канта – не иллюзии, а необходимые условия эмпирической реальности. Таким образом, несмотря на расхождения в деталях, большинство интерпретаторов сходятся в признании новаторства кантовской «Трансцендентальной эстетики», которая остаётся предметом активных дискуссий, соединяя историко-философский анализ с современными эпистемологическими и когнитивными исследованиями.
Трансцендетальное учение о началах. Часть вторая. Трансцендентальная логика
Введение.Идея трансцендентальной логики.
I. О логике вообще.Наше познание проистекает из двух основных источников души:
1) способности получать представления (восприимчивость к впечатлениям),
2) способности познавать через эти представления предмет (спонтанность понятий).
Благодаря первому источник нам даётся предмет, благодаря второму он мыслится в отношении к этому представлению (как к простому определению души). Таким образом, созерцание и понятия составляют элементы всего нашего познания. Ни понятия без соответствующих им созерцаний, ни созерцания без понятий не могут дать знание.
Они бывают либо чистыми, либо эмпирическими.
– Эмпирическими – если в них содержится ощущение (которое предполагает действительное присутствие предмета).
– Чистыми – если к представлению не примешано ощущение.
Последнее можно назвать материей чувственного познания.
– Чистое созерцание содержит только форму, в которой нечто созерцается.
– Чистое понятие – только форму мышления предмета вообще.
Только чистые созерцания и понятия возможны a priori, эмпирические – лишь a posteriori.
Если мы назовём чувственностью восприимчивость нашей души к получению представлений (поскольку она каким-то образом подвергается воздействию), то способность самостоятельно производить представления (спонтанность познания) будет рассудком.
Наша природа такова, что созерцание может быть только чувственным – то есть содержать лишь способ, каким предметы воздействуют на нас. Напротив, способность мыслить предмет чувственного созерцания – это рассудок.
Ни одно из этих свойств не предпочтительнее другого:
– Без чувственности ни один предмет не был бы дан нам.
– Без рассудка ни один предмет не был бы помыслен.
Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы. Поэтому одинаково необходимо:
– делать понятия чувственными (то есть присоединять к ним предмет в созерцании),
– делать созерцания понятными (то есть подводить их под понятия).
Эти две способности не могут выполнять функции друг друга:
– Рассудок не способен созерцать,
– Чувства не способны мыслить.
Только из их соединения возникает познание. Однако нельзя смешивать их вклад – напротив, есть веские основания тщательно разделять и различать их.
Поэтому мы отличаем науку о правилах чувственности вообще (эстетику) от науки о правилах рассудка вообще (логики).
Логика, в свою очередь, может рассматриваться двояко:
1) как логика общего применения рассудка,
2) как логика частного применения рассудка.
Первая содержит абсолютно необходимые правила мышления, без которых вообще невозможно никакое применение рассудка, независимо от различия предметов, на которые он направлен.
Вторая содержит правила правильного мышления о предметах определённого рода.
– Первую можно назвать элементарной логикой,
– Вторую – органоном той или иной науки.
Последняя часто преподаётся в школах как пропедевтика наук, хотя, по ходу развития человеческого разума, она возникает позже всего – лишь когда наука уже давно готова и требует лишь последних штрихов для исправления и совершенствования. Ведь чтобы указать правила построения науки, нужно уже достаточно хорошо знать её предмет.
Общая логика, в свою очередь, бывает:
– чистой,
– прикладной.
Чистая логика абстрагируется от всех эмпирических условий, в которых действует наш рассудок (например, от влияния чувств, игры воображения, законов памяти, силы привычки, склонностей и т. д.), а значит – и от источников предрассудков, и вообще от всех причин, порождающих или подсовывающих нам те или иные знания, поскольку они касаются рассудка лишь при определённых условиях его применения и требуют опыта для своего познания.
Таким образом, общая, но чистая логика имеет дело исключительно с априорными принципами и является каноном рассудка и разума, но только в отношении формальной стороны их применения (каким бы ни было содержание – эмпирическим или трансцендентальным).
Прикладная логика – это та же общая логика, но направленная на правила применения рассудка при субъективных эмпирических условиях, которые изучает психология. Она опирается на эмпирические принципы, хотя и остаётся общей, поскольку относится к применению рассудка без различия предметов.
Поэтому она:
– не является каноном рассудка вообще,
– не служит органоном отдельных наук,
– а представляет собой лишь катартику (очистительное средство) обыденного рассудка.
В общей логике часть, составляющая учение о чистом разуме, должна быть полностью отделена от той, которая образует прикладную (хотя всё же общую) логику. Первая – это единственная подлинная наука, хотя и краткая, и сухая, как того требует схоластически точное изложение элементарного учения о рассудке. Здесь логики всегда должны руководствоваться двумя правилами:
1. Как общая логика, она абстрагируется от всякого содержания познания рассудка и различия его объектов, имея дело исключительно с формой мышления.
2. Как чистая логика, она не содержит эмпирических принципов и потому не заимствует ничего (как иногда ошибочно полагали) из психологии, которая не влияет на канон рассудка. Это – доказательная доктрина, где всё должно быть достоверно a priori.
То, что я называю прикладной логикой (вопреки обычному смыслу этого слова, под которым подразумевают упражнения, основанные на правилах чистой логики), – это учение о рассудке и правилах его необходимого применения in concreto, то есть в условиях субъекта, которые могут препятствовать или способствовать такому применению и даны лишь эмпирически. Она рассматривает внимание, его помехи и последствия, происхождение заблуждений, состояния сомнения, скрупулёзности, убеждённости и т.д.
Отношение общей и чистой логики к прикладной аналогично отношению чистой морали (содержащей лишь необходимые нравственные законы свободной воли вообще) к учению о добродетели, которое учитывает эти законы в условиях препятствий – чувств, склонностей и страстей, подвластных человеку. Последнее, как и прикладная логика, никогда не станет истинной и доказательной наукой, ибо требует эмпирических и психологических принципов.
II. О трансцендентальной логике.Как уже показано, общая логика абстрагируется от всякого содержания познания, то есть от его отношения к объекту, и рассматривает лишь логическую форму связи знаний между собой – форму мышления вообще. Однако поскольку существуют как чистые, так и эмпирические созерцания (как доказано в трансцендентальной эстетике), можно предположить различие между чистым и эмпирическим мышлением объектов. В таком случае возникла бы логика, не абстрагирующаяся от содержания познания: та, что содержит правила чистого мышления объекта, исключила бы все знания эмпирического содержания.
Такая логика исследовала бы происхождение наших знаний об объектах, поскольку оно не может быть приписано самим объектам, тогда как общая логика этим не занимается. Она рассматривает представления – будь они изначально даны a priori или эмпирически – лишь по законам их связи в рассудке, то есть имеет дело только с формой рассудка, независимо от источника представлений.
Здесь важно заметить (и это повлияет на все последующие рассуждения):
Трансцендентальным следует называть не всякое a priori знание, а только то, через которое мы узнаём, что и как определённые представления (созерцания или понятия) применяются или возможны исключительно a priori.
Например:
– Пространство и его геометрические определения a priori – не трансцендентальные представления.
– Но знание их неэмпирического происхождения и возможности a priori относиться к объектам опыта – трансцендентально.
– Использование пространства для объектов вообще было бы трансцендентальным, но если ограничено чувственными объектами – становится эмпирическим.
Таким образом, различие трансцендентального и эмпирического относится только к критике познаний, а не к их отношению к объекту.
Предполагая, что существуют понятия, a priori соотносящиеся с объектами не как созерцания, а как акты чистого мышления (т.е. понятия неэмпирического и нечувственного происхождения), мы заранее формируем идею науки о чистых рассудочных и разумных знаниях, позволяющей мыслить объекты целиком a priori. Такая наука, определяющая происхождение, объём и объективную значимость этих знаний, должна называться трансцендентальной логикой, ибо имеет дело только с законами рассудка и разума a priori, в отличие от общей логики, рассматривающей и эмпирические, и чистые знания без разбора.
III. О разделении общей логики на аналитику и диалектику.Старый и знаменитый вопрос, которым пытались загнать логиков в тупик, вынудив их либо к жалким уловкам, либо к признанию собственного невежества и тщетности их искусства, звучит так: Что есть истина?
Определение истины как соответствия знания своему объекту здесь принимается как данное. Но спрашивают: каков универсальный и достоверный критерий истины для любого знания?
Умение задавать разумные вопросы – важное доказательство мудрости. Ибо абсурдный вопрос не только позорит спрашивающего, но и провоцирует нелепые ответы, создавая комичную ситуацию, где один (как говорили древние) «доит козла», а другой «подставляет решето».
Если истина – это соответствие знания объекту, то объект должен отличаться от других: знание ложно, если не согласуется с тем объектом, к которому относится, даже если верно для иного.
Универсальный критерий истины должен быть применим ко всем знаниям, независимо от их объектов. Но поскольку он абстрагируется от содержания знания (его связи с объектом), а истина как раз зависит от этого содержания, требовать такого критерия невозможно и абсурдно.
Таким образом, для материи знания (его содержания) нельзя установить универсальный признак истины – это противоречиво.
Однако для формы знания (при отвлечении от содержания) логика, излагающая всеобщие и необходимые правила рассудка, должна предоставить критерии истины. Всё, что им противоречит, ложно, ибо рассудок нарушает свои же правила.
Но эти критерии касаются только формы истины (мышления вообще) и, хотя верны, недостаточны. Знание может быть логически безупречным (непротиворечивым), но всё же не соответствовать объекту.
Логический критерий истины – согласие знания с формальными законами рассудка и разума – это conditio sine qua non (необходимое отрицательное условие), но не более. Логика не способна выявить ошибки, касающиеся содержания, а не формы.
Общая логика расчленяет всё формальное действие рассудка и разума на его элементы и представляет их как принципы всякого логического оценивания нашего познания. Эта часть логики может поэтому называться аналитикой и именно в силу этого является по меньшей мере негативным критерием истины, поскольку сначала необходимо проверить и оценить всякое познание по его форме согласно этим правилам, прежде чем исследовать его содержание, чтобы определить, содержит ли оно позитивную истину в отношении предмета.
Однако, поскольку одна лишь форма познания, сколь бы она ни соответствовала логическим законам, ещё далеко не достаточна для того, чтобы установить материальную (объективную) истинность познания, никто не может отважиться судить о предметах и что-либо утверждать, опираясь лишь на логику, не собрав предварительно обоснованных сведений о них вне логики, чтобы затем лишь попытаться использовать и связать их в связное целое согласно логическим законам – или, ещё лучше, просто проверить их согласно этим законам.
Тем не менее, в обладании этой кажущейся искусной способностью придавать всем нашим познаниям форму рассудка (хотя по содержанию они могут быть весьма скудны) заключено нечто столь обманчивое, что общая логика, будучи лишь каноном для оценки, используется как бы в качестве органона для действительного порождения – по крайней мере, видимости – объективных утверждений и тем самым фактически злоупотребляется. Такая общая логика, мнимая как органон, называется диалектикой.
Как бы ни различались значения, в которых древние использовали это название для науки или искусства, из действительного употребления можно с уверенностью заключить, что для них оно означало не что иное, как логику видимости – софистическое искусство придавать невежеству и даже умышленным иллюзиям видимость истины, подражая методу основательности, предписанному логикой вообще, и используя её топику для приукрашивания всякого пустого утверждения.
Теперь можно отметить как надёжное и полезное предостережение: общая логика, рассматриваемая как органон, всегда является логикой видимости, то есть диалектической. Поскольку она вовсе не учит нас чему-либо о содержании познания, а лишь указывает формальные условия согласованности с рассудком (которые, впрочем, совершенно безразличны в отношении объектов), то попытка использовать её как орудие (органон) для расширения и увеличения знаний – по крайней мере, по видимости – неизбежно приводит к пустословию: к возможности с видимостью обоснованности утверждать что угодно или же оспаривать по своему усмотрению.
Подобное учение никоим образом не соответствует достоинству философии. Поэтому предпочтительнее понимать диалектику как критику диалектической видимости, включая её в логику, и именно в таком смысле мы будем её здесь рассматривать.
IV. О разделении трансцендентальной логики на аналитику и диалектику.В трансцендентальной логике мы изолируем рассудок (подобно тому, как в трансцендентальной эстетике изолировалась чувственность) и выделяем лишь ту часть нашего познания, которая имеет свой источник исключительно в рассудке. Однако применение этого чистого знания зависит от условия: чтобы нам были даны объекты в созерцании, к которым оно могло бы быть применено. Без созерцания всякому нашему познанию недостаёт объекта, и тогда оно остаётся совершенно пустым.
Таким образом, часть трансцендентальной логики, которая излагает элементы чистого рассудочного познания и принципы, без которых ни один предмет вообще не может быть мыслим, называется трансцендентальной аналитикой и одновременно является логикой истины. Ибо никакое познание не может ей противоречить, не теряя при этом всякого содержания, то есть всякого отношения к какому-либо объекту, а значит, и всякой истины.
Но поскольку крайне заманчиво и соблазнительно пользоваться этими чистыми рассудочными познаниями и принципами самостоятельно, даже за пределами опыта (хотя только опыт может предоставить нам материал, то есть объекты, к которым применимы эти чистые рассудочные понятия), рассудок рискует впасть в пустые умствования, делая материальное применение из чисто формальных принципов чистого рассудка и вынося суждения о предметах, которые нам не даны – а возможно, и вообще не могут быть даны каким-либо образом.









