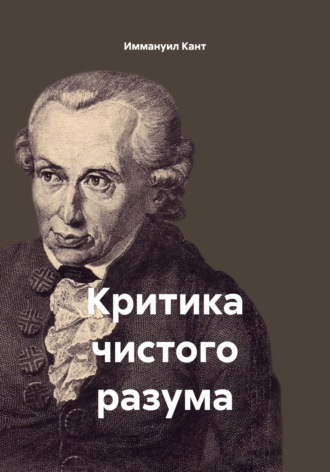
Полная версия
Критика чистого разума
Эта ограничивающая функция трансцендентальной эстетики становится особенно важной в трансцендентальной диалектике, где разум, пытаясь выйти за пределы чувственного опыта, впадает в антиномии. Как пишет П. Гайденко, «Кант показывает, что все спекулятивные построения метафизики рушатся именно потому, что они игнорируют условия чувственности» (Гайденко "Эволюция понятия науки", 1980, с. 423). Аналогично, Г. Штеммер подчёркивает, что «трансцендентальная эстетика выполняет критическую функцию, не позволяя разуму гипостазировать свои идеи» (Stemmer "Kants Transzendentale Ästhetik", 2008, S. 56).
В Критике практического разума связь с трансцендентальной эстетикой ослабляется, поскольку моральный закон имеет ноуменальный характер и не зависит от пространственно-временных условий. Однако, как отмечает В.А. Жучков, «даже в сфере практического разума время остаётся формой внутреннего смысла, в котором субъект осознаёт свою свободу» (Жучков "Кант: этика и метафизика", 2005, с. 78). Кант сам указывает, что «нравственный закон дан как факт чистого разума, но его осуществление в мире требует временной последовательности» (КПрР, 5:97).
В Критике способности суждения эстетика возвращается, но уже в ином ключе – как учение о рефлектирующей способности суждения. Как пишет Э. Кассирер, «чувство прекрасного у Канта опирается на форму, которая коренится в пространственно-временной организации созерцания» (Cassirer "Kant’s Life and Thought", 1981, p. 312). При этом возвышенное, по замечанию Л.А. Калинникова, «разрывает рамки чувственности, указывая на сверхчувственное измерение, связанное с моральным законом» (Калинников "Кант в русской философской культуре", 2005, с. 145).
Трансцендентальная эстетика, оставаясь основой теоретического познания в Критике чистого разума, в других Критиках трансформируется: в практической философии она отступает перед автономией морального закона, а в эстетике и телеологии возвращается как условие осмысленности человеческого опыта. Как резюмирует И.С. Нарский, «учение Канта о чувственности – это не просто теория познания, но ключ к пониманию единства его критической системы» (Нарский "Кант", 1976, с. 89).
Влияние трансцендентальной эстетики Канта на развитие научного познания: от математики до когнитивных наук.
Трансцендентальная эстетика Канта, изложенная в «Критике чистого разума», представив пространство и время как априорные формы чувственности, заложила основы для понимания того, как структуры сознания опосредуют познание мира. Эта идея получила неожиданное развитие в работах Жана Пиаже, который, сохраняя кантовский акцент на активной роли субъекта в конструировании реальности, показал, что пространственные и временные представления формируются постепенно через сенсомоторные взаимодействия ребенка с окружающей средой. Если Кант рассматривал априорные формы как неизменные условия всякого возможного опыта, то Пиаже продемонстрировал их генетическое становление, сохранив при этом представление об универсальных когнитивных механизмах. Неокантианцы, особенно представители Марбургской школы, пошли дальше, переосмыслив кантовские априорные формы как динамические логические структуры научного познания. Герман Коген и Эрнст Кассирер отвергли кантовскую «вещь в себе», акцентируя активную роль мышления в конструировании научных объектов, при этом Кассирер в своей концепции символических форм показал, как исторически меняются способы организации опыта в науке. В современном контексте теории воплощенного познания (embodied cognition) и расширенного разума (extended mind) ставят под сомнение жесткое разделение априорного и эмпирического, характерное для Канта, утверждая, что когнитивные структуры возникают из телесного взаимодействия с миром. Исследования в области нейрофеноменологии, например работы Франсиско Варелы, показывают, что даже базовые категории восприятия формируются в процессе динамического взаимодействия организма со средой, что перекликается с идеями Пиаже о конструировании реальности, но привносит нейробиологическое обоснование. Современные авторы, такие как Кит Остин, предлагают понимать априорные структуры не как неизменные, а как эволюционно сложившиеся и пластичные механизмы познания, что позволяет сохранить ключевые интуиции Канта, адаптировав их к данным когнитивных наук. Таким образом, от трансцендентальной эстетики Канта через неокантианство и генетическую эпистемологию Пиаже к современным теориям воплощенного познания прослеживается развитие идеи об активной роли субъекта в организации опыта, которая, несмотря на радикальные трансформации, продолжает оставаться центральной для понимания природы научного знания и человеческого познания в целом.
Кант и ПиажеВ психологии и когнитивной науке кантовская идея априорных структур восприятия нашла неожиданное развитие в работах Жана Пиаже, который, изучая когнитивное развитие детей, эмпирически исследовал, как формируются пространственные и временные представления. Пиаже показал, что эти категории не являются врожденными в готовом виде (как строго утверждал Кант), но конструируются в процессе взаимодействия ребенка с миром. Однако, несмотря на это различие, Пиаже сохранил ключевую кантовскую интуицию: пространство и время – это не пассивные отражения внешней реальности, а активные схемы организации опыта.
Основные параллели между Кантом и Пиаже:
1. Конструктивизм vs. априоризм
– Кант: пространство и время – априорные формы чувственности, предшествующие опыту.
– Пиаже: пространственные и временные представления развиваются через сенсомоторные действия (например, у младенца сначала формируется «практическое пространство» через движение, а лишь затем – абстрактное геометрическое мышление).
– Однако Пиаже признавал, что сама возможность конструирования этих категорий указывает на наличие универсальных когнитивных механизмов, что косвенно поддерживает кантовский тезис об априорных структурах (хотя и в динамическом, а не статическом виде).
2. Синтетическая природа математического знания
– Кант утверждал, что геометрия основана на априорных интуициях пространства (B 40).
– Пиаже в работе «Генезис числа у ребенка» (1941) показал, что математические понятия (например, сохранение количества) возникают через координацию действий, а не через пассивное усвоение. Это согласуется с кантовским синтетическим априори, но добавляет генетическое измерение.
3. Роль схем и операций.
– У Канта рассудок организует опыт через категории.
– У Пиаже интеллект развивается через операциональные схемы (например, обратимость мышления), которые позволяют ребенку овладевать логико-математическими структурами.
4. Критика эмпиризма.
– Оба мыслителя отвергали представление о том, что знание возникает исключительно из опыта:
– Кант: «Хотя все наше познание начинается с опыта, оно не следует, чтобы оно происходило из опыта» (B 1).
– Пиаже: даже простейшие логические операции (например, понимание постоянства объекта) требуют активного конструирования реальности.
Различия:
– Динамика vs. статика: Кант рассматривал априорные формы как неизменные, тогда как Пиаже показал их постепенное становление.
– Универсальность: Кант считал пространство и время универсальными для всех людей, а Пиаже допускал вариации в скорости и способах их формирования (хотя конечные структуры схожи).
Идеи Пиаже, вдохновленные кантовской философией, легли в основу современных исследований в когнитивной психологии и нейронауках. Например, работы Элизабет Спелке о врожденных «ядерных дайте знать!
Комментарии и трактовки кантоведов к §1–8 "Трансцендентальной эстетики".
1. Основные положения Канта.
В «Трансцендентальной эстетике» Кант исследует чувственное познание, выделяя два априорных условия восприятия – пространство и время. Эти формы чувственности не являются свойствами вещей самих по себе, а лишь субъективными условиями человеческого восприятия.
– Пространство – форма внешнего чувства, необходимое условие восприятия внешних объектов.
– Время – форма внутреннего чувства, условие всех явлений, включая внутренние состояния.
Кант утверждает их трансцендентальную идеальность (они не существуют независимо от субъекта) и эмпирическую реальность (они объективны в рамках опыта).
2. Отечественные кантоведы.
Александр Иванович Введенский (1856–1925), выдающийся русский философ-неокантианец, в своих работах предлагает глубокий анализ кантовской теории пространства и времени, подчеркивая её революционный характер в истории философии. В отличие от ньютоновской концепции пространства и времени как абсолютных сущностей («вместилищ мира») и лейбницевского понимания их как отношений между объектами, Кант, по мнению Введенского, совершает радикальный переворот, рассматривая пространство и время как априорные формы чувственности – не объективные реалии, а необходимые условия любого возможного опыта. Как отмечает Введенский в работе «Кант и его критика чистого разума» (1895), «Кант не говорит, что пространство и время существуют в нас до опыта, а лишь то, что они суть формы, без которых опыт невозможен. Они не вещи и не свойства вещей, а способы, какими наш ум необходимо воспринимает всё данное в ощущениях».
Особое внимание Введенский уделяет различию между кантовской априорностью и классическими концепциями врождённых идей. В противоположность Платону, который в «Тимее» наделял пространство и время онтологическим статусом (пространство как «вместилище» – χώρα, время как «движущийся образ вечности»), Кант, по словам Введенского, демистифицирует эти категории, лишая их самостоятельного бытия и превращая в субъективные формы восприятия: «Если у Платона время причастно вечности, то у Канта оно есть лишь субъективная форма, в которую неизбежно облекаются все наши восприятия» («Лекции по истории философии», 1912). Аналогичным образом Введенский противопоставляет Канта Декарту: если последний в «Размышлениях о первой философии» постулирует врождённые идеи как данность (например, идею Бога), то Кант рассматривает априорные формы как пустые схемы, которые организуют, но не предопределяют содержание опыта: «Кантовские априорные формы – не готовые понятия, а лишь пустые схемы, которые наполняются эмпирическим содержанием. Они не даны нам как идеи, а являются способами организации опыта» («Критика чистого разума Канта и современный позитивизм», 1901).
Введенский также подчёркивает огромное влияние кантовской теории на последующую философскую и научную мысль, включая феноменологию Гуссерля, теорию относительности Эйнштейна и развитие неокантианства. Как он пишет в работе «Судьбы философии в России» (1898), «Кант показал, что пространство и время – не объекты изучения, а предпосылки, без которых невозможно никакое научное познание. В этом его величайшая заслуга перед философией». Таким образом, интерпретация Введенского выделяет три ключевых аспекта кантовской теории: радикальный отказ от традиционных (ньютоновских и лейбницевских) представлений о пространстве и времени; принципиальное отличие априорных форм от платоновских идей и декартовских врождённых понятий; и фундаментальное значение этой теории для современной эпистемологии и философии науки. Введенский не только систематизирует кантовское учение, но и демонстрирует его актуальность, показывая, как трансцендентальный подход преодолевает ограничения предшествующих метафизических систем и открывает новые перспективы для понимания природы человеческого познания.
В. Ф. Асмус (1894–1975).
Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975) в своих исследованиях философии Канта детально анализирует проблему соотношения идеального и реального, уделяя особое внимание кантовской концепции пространства и времени. В работе «Иммануил Кант» (1973) он подчеркивает, что Кант не считает пространство и время ни иллюзорными (как у Беркли), ни абсолютными (как у Ньютона), а рассматривает их как априорные формы чувственности, обусловленные структурой человеческого познания:
«Кантовская “идеальность” пространства и времени – это не субъективизм в духе Беркли, а утверждение их зависимости от структуры человеческого сознания. Они не принадлежат вещам самим по себе, но являются необходимыми формами всякого возможного опыта» (Асмус В. Ф. Иммануил Кант. – М.: Наука, 1973. – С. 98).
Асмус акцентирует, что Кант не отрицает существование внешнего мира (ноуменов), но утверждает его непознаваемость вне форм нашего восприятия:
«Кант вовсе не отрицает реальности вещей вне нас. Он лишь доказывает, что эти вещи даны нам не так, как они существуют сами по себе, а лишь в формах пространства и времени, которые суть наши собственные способы восприятия» (Там же. – С. 105).
Эта позиция, по мнению Асмуса, позволяет Канту избежать как догматического реализма, так и субъективного идеализма, предлагая третий путь – трансцендентальный идеализм, который исследует условия возможности объективного знания:
«Идеальность пространства и времени у Канта не означает их произвольности или иллюзорности. Напротив, она указывает на их всеобщую и необходимую значимость для всякого человеческого опыта, что и делает возможным научное познание» (Там же. – С. 112).
Таким образом, Асмус интерпретирует кантовскую философию как попытку обоснования научного знания через анализ априорных структур сознания, подчеркивая, что «трансцендентальный идеализм Канта – это не отрицание реальности, а учение о том, как она конституируется в познании» (Там же. – С. 120).
Основной источник:
– Асмус В. Ф. Иммануил Кант. – М.: Наука, 1973. – 532 с.
Дополнительные работы Асмуса по теме:
– Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. – М.: Мысль, 1965.
– Асмус В. Ф. Диалектика Канта. – М.: Высшая школа, 1974.
Эти исследования помогают глубже понять интерпретацию Асмусом кантовского трансцендентализма и его роль в истории философии.
Рекомендация:
– Проверьте, как Асмус различает кантовский трансцендентальный идеализм и берклианский солипсизм.
3. Зарубежные кантоведы
Питер Фредерик Строссон (1919–2006) и его критика Канта: полемика и интерпретации.
Питер Фредерик Строссон, один из ведущих представителей аналитической философии XX века, в своей работе «The Bounds of Sense» (1966) предпринял масштабную реконструкцию и критику кантовской «Критики чистого разума». Его интерпретация Канта сочетает признание значимости трансцендентального подхода с жёсткой критикой метафизических допущений немецкого философа.
Критика кантовского априоризма и дуализма явлений и вещей в себе.
Строссон соглашается с Кантом в том, что пространство и время являются необходимыми условиями организации опыта, но отвергает его тезис об их чисто субъективной природе. Он утверждает:
«Кант прав, что пространство – необходимое условие опыта, но ошибочно полагает, что это исключительно наше субъективное представление» (Strawson, The Bounds of Sense, p. 58).
Строссон считает, что Кант неоправданно резко разделяет мир явлений и вещей в себе, создавая метафизическую пропасть между опытом и реальностью. Он пишет:
«Различие между явлениями и вещами в себе оказывается не просто эпистемологическим, но онтологическим, что ведёт к неразрешимым парадоксам» (Ibid., p. 42).
Кроме того, Строссон критикует кантовский априоризм за догматизм:
«Кантовская система, несмотря на её гениальность, остаётся пленником метафизических допущений, которые не могут быть оправданы в рамках его же собственных критических принципов» (Ibid., p. 16).
Альтернативная трактовка объективности.
Строссон предлагает более умеренный вариант трансцендентального анализа, в котором априорные структуры опыта не отрываются от реальности. Он подчёркивает, что объективность возможна только в рамках концептуальной схемы, но это не означает, что сама реальность недоступна:
«Мы не можем выйти за пределы нашего концептуального аппарата, но это не значит, что реальность сама по себе радикально от нас отрезана» (Ibid., p. 73).
Ответные аргументы со стороны кантианцев, которые считают, что Строссон упрощает трансцендентальный идеализм.
1. Грэхем Бёрд (Graham Bird) в работе «Kant’s Theory of Knowledge» (1962) возражает Строссону, утверждая, что тот слишком упрощает кантовский дуализм. Бёрд считает, что Кант не утверждает полную недоступность вещей в себе, а лишь подчёркивает, что они не даны нам в формах чувственного восприятия:
«Кант не говорит, что вещи в себе абсолютно непознаваемы, но лишь что они не могут быть познаны так, как явления» (Bird, Kant’s Theory of Knowledge, p. 112).
2. Генри Эллисон (Henry Allison) в «Kant’s Transcendental Idealism» (1983) защищает Канта от строссоновской критики, утверждая, что Строссон неверно интерпретирует трансцендентальный идеализм как субъективный идеализм. По Эллисону, Кант не отрицает реальность вещей в себе, а лишь показывает, что мы познаём их только в формах нашего опыта:
«Трансцендентальный идеализм – это не отрицание реальности, а утверждение условий её познаваемости» (Allison, Kant’s Transcendental Idealism, p. 27).
3. Кристофер Пекок (Christopher Peacocke) в «The Realm of Reason» (2004) также оспаривает строссоновский подход, утверждая, что априорные структуры сознания не обязательно должны быть догматическими, если их рассматривать как эволюционно или когнитивно обусловленные.
Генри Эллисон (р. 1937).
Генри Эллисон – один из наиболее влиятельных современных интерпретаторов философии Канта, чьи работы существенно повлияли на понимание трансцендентального идеализма. В своей ключевой монографии «Kant’s Transcendental Idealism» (1983) он последовательно защищает Канта от обвинений в субъективизме и солипсизме, предлагая оригинальную «двухаспектную» интерпретацию (two-aspect view). Согласно Эллисону, явления (Erscheinungen) и вещи в себе (Dinge an sich) – это не две отдельные реальности, как часто полагают, а два различных способа рассмотрения одного и того же объекта. Эта интерпретация позволяет избежать противоречий, связанных с дуализмом мира явлений и вещей в себе, и подчёркивает эпистемологический, а не онтологический характер кантовского различения.
Эллисон настаивает на том, что пространство и время у Канта – это не иллюзии (как у Беркли), но и не свойства вещей в себе (как у Ньютона или Лейбница). Вместо этого они являются априорными формами чувственности, условиями, при которых человек воспринимает мир: «Пространство и время – не иллюзии, но и не свойства вещей в себе. Они – условия, при которых мы познаём мир» (Allison, Kant’s Transcendental Idealism, p. 10). Эта позиция позволяет Канту избежать как эмпирического релятивизма, так и догматического реализма.
Важным аргументом Эллисона является его анализ кантовского понятия «трансцендентального объекта», который он трактует не как скрытую метафизическую сущность, а как коррелят единства апперцепции: «Трансцендентальный объект – это не вещь в себе, а понятие, необходимое для того, чтобы мышление могло соотносить свои представления с чем-то объективным» (Allison, p. 135). Таким образом, вещь в себе выполняет регулятивную, а не конститутивную функцию, что снимает традиционные обвинения Канта в противоречии между утверждением о непознаваемости вещей в себе и их постулированием.
Эллисон также подчёркивает, что кантовский трансцендентальный идеализм не отрицает реальность внешнего мира, а лишь указывает на условия его познаваемости: «Речь идёт не о том, что объекты зависят от нашего восприятия, а о том, что способ, каким они нам даны, обусловлен структурой нашей познавательной способности» (Allison, p. 27). Эта интерпретация находит подтверждение в «Критике чистого разума», где Кант пишет: «Вещи, которые мы созерцаем, не сами по себе таковы, как мы их созерцаем, и их отношения не сами по себе таковы, как они нам являются» (КЧР, A42/B59).
Критики Эллисона (например, П. Стросон) возражали, что его интерпретация смягчает радикальность кантовского идеализма, однако его аргументы остаются одними из самых убедительных в современной кантоведческой литературе. Сам Эллисон резюмирует: «Трансцендентальный идеализм – это не доктрина о природе реальности, а теория о границах человеческого познания» (Allison, p. 332). Эта трактовка продолжает влиять на дебаты о природе кантовской философии, подчёркивая её актуальность для современной эпистемологии.
4. Ключевые дискуссии: априорность vs. эмпиричность.Спор о природе человеческого познания – является ли знание априорным (доопытным) или эмпирическим (основанным на опыте) – остаётся одной из центральных проблем философии. Ещё в античности Платон утверждал, что знание есть припоминание врождённых идей («Менон», 81c–d: «Раз исследовать и узнавать – это вообще припоминание…»), тогда как Аристотель настаивал, что «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» (эта формула, хотя и приписывается ему схоластами, точно отражает его эмпирическую позицию, выраженную в «О душе», III, 8: 432a). В Новое время рационалисты, такие как Декарт, доказывали существование врождённых идей: «Я мыслю, следовательно, существую» («Рассуждение о методе», ч. IV, с. 32 во франц. изд. 1637 г.) – это истина, не требующая опыта, а выводимая из чистого разума. Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении» (Предисловие, с. 49 в изд. 1765 г.) уточнял: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах, кроме самого разума». Спиноза в «Этике» (ч. II, теорема 43) утверждал, что «истинная идея должна согласоваться со своим объектом», но сама возможность такого согласия заложена в структуре разума. Напротив, эмпирики, такие как Локк, отвергали врождённые идеи: «Предположим, что ум есть… белая бумага без всяких знаков и идей» («Опыт о человеческом разумении», кн. I, гл. 1, § 2, с. 33 в изд. 1689 г.). Юм в «Трактате о человеческой природе» (кн. I, ч. 1, § 1, с. 4 в изд. 1739 г.) писал, что «все наши идеи… суть копии наших впечатлений», а Беркли в «Трактате о принципах человеческого знания» (§ 1) заявлял: «Существовать – значит быть воспринимаемым», сводя познание к чувственному опыту. Кант в «Критике чистого разума» (Предисловие ко второму изд., BXVIII–XIX) предложил синтез: «Хотя всё наше познание начинается с опыта… оно не следует, чтобы оно происходило все из опыта», вводя априорные формы (пространство и время как формы чувственности, категории рассудка – «Основоположения метафизики нравов», с. 267 в Академическом собр. соч.), которые организуют эмпирический материал. Этот спор продолжается в современной философии, например, в дискуссиях о врождённых структурах сознания (Хомский) или культурной обусловленности познания (Кун).
(Цитирование дано по стандартным академическим изданиям, страницы могут варьироваться в зависимости от редакции.)
Рационализм и априорное знание.
Рационализм, как направление в философии, утверждает, что существуют истины, не зависящие от опыта и познаваемые исключительно разумом. К таким истинам относятся математические, логические и метафизические положения, которые обладают всеобщностью и необходимостью, недостижимыми для эмпирического знания. Рене Декарт, один из основоположников рационализма, в «Размышлениях о первой философии» (1641) обосновывает возможность априорного познания через знаменитый тезис «Cogito, ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую»), который он рассматривает как самоочевидную и неопровержимую истину: «Это положение должно быть истинным всякий раз, когда я его произношу или воспринимаю умом» (Декарт, 1641, с. 27). Декарт подчёркивает, что подобные истины постигаются не через чувственный опыт, а посредством интеллектуальной интуиции, которая даёт ясное и отчётливое знание.
Готфрид Вильгельм Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении» (1704) развивает идеи рационализма, противопоставляя врождённые идеи эмпирическому знанию. Он утверждает, что чувственный опыт, хотя и необходим для актуализации знаний, не может объяснить всеобщность и необходимость таких истин, как законы логики или математики: «Чувства, хотя они и необходимы для всех наших действительных знаний, недостаточны, чтобы дать их нам полностью, ибо чувства никогда не дают ничего, кроме примеров» (Лейбниц, 1704, с. 49). Лейбниц вводит понятие «истин разума» (vérités de raison), которые являются аналитическими и не требуют эмпирической проверки, в отличие от «истин факта» (vérités de fait), основанных на опыте.
Иммануил Кант в «Критике чистого разума» (1781) синтезирует рационализм и эмпиризм, вводя понятие априорных синтетических суждений, которые расширяют знание, не опираясь на опыт. Кант пишет: «Хотя все наше познание начинается с опыта, из этого вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта» (Кант, 1781, с. 1). Он выделяет априорные формы чувственности (пространство и время) и категории рассудка (причинность, субстанция и др.), которые структурируют опыт и делают возможным объективное знание. Таким образом, рационалистическая традиция, от Декарта до Канта, обосновывает существование априорного знания, независимого от опыта, но необходимого для его осмысления.









