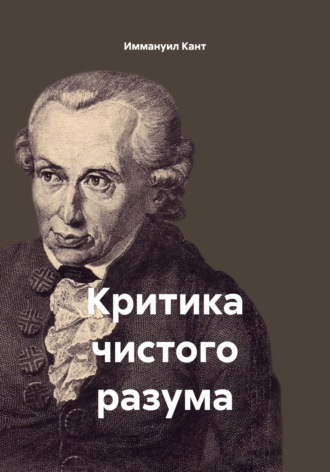
Полная версия
Критика чистого разума
Время и пространство являются, таким образом, двумя источниками познания, из которых можно черпать различные априорные синтетические знания. Особенно яркий пример этого даёт чистая математика в отношении познаний о пространстве и его отношениях. Они (время и пространство) представляют собой чистые формы всякого чувственного созерцания, взятые вместе, и тем самым делают возможными априорные синтетические суждения. Однако эти априорные источники познания именно в силу того, что они являются лишь условиями чувственности, определяют свои границы: они относятся только к объектам, рассматриваемым как явления, но не представляют вещи сами по себе. Только явления составляют область их значимости, и если выйти за её пределы, то никакое объективное применение этих форм невозможно.
Эта реальность пространства и времени, впрочем, не ставит под сомнение достоверность опытного познания: мы одинаково уверены в нём, независимо от того, присущи ли эти формы вещам самим по себе или только нашему созерцанию этих вещей. Напротив, те, кто утверждает абсолютную реальность пространства и времени – независимо от того, считают ли они их самостоятельно существующими или лишь присущими вещам, – неизбежно вступают в противоречие с самими принципами опыта.
Если они выбирают первый вариант (что обычно свойственно сторонникам математического естествознания), то вынуждены признать два вечных и бесконечных, самостоятельно существующих «не-предмета» (пространство и время), которые существуют (хотя в них нет ничего действительного) лишь для того, чтобы охватывать всё действительное. Если же они принимают вторую точку зрения (к которой склоняются некоторые метафизики-натурфилософы) и считают пространство и время абстрагированными из опыта, хотя и смутно представляемыми, отношениями явлений (сосуществования или последовательности), то они должны отрицать априорную значимость математических учений в отношении реальных вещей (например, в пространстве), по крайней мере их аподиктическую достоверность, поскольку такая достоверность апостериори невозможна. Согласно этому мнению, априорные понятия пространства и времени – лишь порождения воображения, источник которых действительно следует искать в опыте, а воображение создало из абстрагированных отношений нечто, содержащее их всеобщность, но не могущее существовать без ограничений, налагаемых природой.
Первые (математики) выигрывают в том, что открывают для математических утверждений поле явлений. Однако они же запутываются, когда разум пытается выйти за пределы этого поля. Вторые (метафизики) имеют преимущество в том, что представления о пространстве и времени не мешают им, когда они хотят судить о предметах не как о явлениях, а лишь в отношении к рассудку. Но они не могут ни объяснить возможность априорных математических познаний (поскольку у них отсутствует истинное и объективно значимое априорное созерцание), ни согласовать опытные положения с этими утверждениями. В нашей теории о подлинной природе этих двух первоначальных форм чувственности оба затруднения устранены.
Наконец, ясно, что трансцендентальная эстетика не может содержать более двух элементов – пространства и времени, поскольку все остальные понятия, относящиеся к чувственности, включая даже движение (которое объединяет оба элемента), предполагают нечто эмпирическое. Ведь движение требует восприятия чего-то движущегося. Но в пространстве самом по себе нет ничего подвижного: значит, движущееся должно быть чем-то, обнаруживаемым в пространстве лишь через опыт, то есть эмпирическим данным. Точно так же трансценденальная эстетика не может включать в свои априорные данные понятие изменения: ведь время само не изменяется, а изменяется лишь то, что находится во времени. Для этого требуется восприятие какого-либо существования и последовательности его определений, то есть опыт.
§ 8. Общие замечания к трансцендентальной эстетике.I. Прежде всего необходимо как можно яснее объяснить наше мнение относительно основной природы чувственного познания вообще, чтобы предотвратить всякое его неверное толкование.
Мы утверждаем, что всё наше созерцание есть лишь представление явлений; что вещи, которые мы созерцаем, не суть вещи сами по себе, и их отношения не таковы, какими они нам являются. Если мы устраним наше субъективное восприятие или даже просто субъективные свойства чувств вообще, то все свойства объектов в пространстве и времени, да и сами пространство и время исчезнут, поскольку как явления они существуют не сами по себе, а только в нас.
Каковы вещи сами по себе, отделённые от всей этой восприимчивости нашей чувственности, остаётся для нас совершенно неизвестным. Мы знаем лишь наш способ восприятия их, который свойственен нам, но не обязательно каждому существу (хотя и каждому человеку). Именно с этим способом мы и имеем дело. Пространство и время – его чистые формы, ощущение вообще – его материя. Только формы мы можем познать априори, то есть до всякого действительного восприятия, и потому они называются чистыми созерцаниями; материя же есть то, что делает наше познание апостериорным, то есть эмпирическим созерцанием.
Пространство и время необходимо присущи нашей чувственности, какими бы ни были наши ощущения; ощущения же могут быть весьма разнообразны. Даже если бы мы довели наше созерцание до высшей степени ясности, это не приблизило бы нас к природе вещей самих по себе. Мы лишь полностью познали бы наш способ созерцания, то есть нашу чувственность, всегда ограниченную изначально присущими субъекту условиями пространства и времени. Каковы вещи сами по себе, нам никогда не станет известно даже через самое ясное познание их явлений, которое единственно нам дано.
Утверждение, будто вся наша чувственность есть лишь смутное представление вещей, содержащее только то, что присуще им самим по себе, но в смешении признаков и частичных представлений, которые мы не можем сознательно разложить, искажает понятие чувственности и явления, делая всё учение о них бесполезным и пустым. Различие между смутным и ясным представлением – лишь логическое и не касается содержания.
Без сомнения, понятие права, которым пользуется здравый рассудок, содержит то же самое, что может развить из него тончайшая спекуляция, только в обыденном и практическом употреблении мы не осознаём всех этих многообразных представлений. Поэтому нельзя сказать, что обыденное понятие чувственно и содержит лишь явление, ведь право не может являться; его понятие принадлежит рассудку и представляет свойство (моральное) действий, присущее им самим по себе. Напротив, представление тела в созерцании не содержит ничего, что могло бы принадлежать предмету самому по себе, а лишь явление чего-то и способ, которым мы им затрагиваемы. Эта восприимчивость нашей познавательной способности называется чувственностью и остаётся бесконечно далёкой от познания предмета самого по себе, даже если бы мы проникли в явление до самых его оснований.
Таким образом, философия Лейбница-Вольфа задала совершенно неверную точку зрения для всех исследований о природе и происхождении наших познаний, рассматривая различие между чувственным и интеллектуальным лишь как логическое, тогда как оно явно трансцендентально и касается не только формы ясности или смутности, но и происхождения и содержания. Благодаря чувственности мы познаём не просто смутно, а вовсе не познаём природу вещей самих по себе. Если устранить наше субъективное свойство, то представляемый объект со всеми свойствами, которые ему приписывает чувственное созерцание, нигде не обнаружится и не может быть обнаружен, поскольку именно это субъективное свойство определяет его форму как явления.
Мы иногда различаем в явлениях то, что существенно присуще их созерцанию и значимо для всякого человеческого чувства вообще, и то, что присуще им лишь случайно, поскольку зависит не от чувственности вообще, а лишь от особого положения или организации того или иного чувства. Первое называют познанием, представляющим предмет сам по себе, второе – лишь его явлением. Но это различие лишь эмпирическое. Если остановиться на нём (как обычно делают) и не рассматривать эмпирическое созерцание вновь как чистое явление (что необходимо), в котором нет ничего, относящегося к вещи самой по себе, то наше трансцендентальное различие теряется. Тогда мы воображаем, будто познаём вещи сами по себе, хотя на самом деле (даже при самом глубоком исследовании объектов чувственного мира) имеем дело только с явлениями.
Так, мы назовём радугу лишь явлением во время дождя при солнце, а сам дождь – вещью самой по себе. Это верно, если понимать последнее понятие лишь физически, как то, что в общем опыте при всех различных положениях относительно чувств всё же определяется в созерцании так, а не иначе. Но если взять это эмпирическое вообще и, не считаясь с его соответствием всякому человеческому чувству, спросить, представляет ли оно также объект сам по себе (не капли дождя, ибо они уже как явления суть эмпирические объекты), то вопрос о соотношении представления с объектом становится трансцендентальным. И тогда не только капли – лишь явления, но даже их круглая форма и сам пространство, в котором они падают, суть ничто само по себе, а лишь модификации или основы нашей чувственной интуиции. Трансцендентальный же объект остаётся нам неизвестным.
II. Второе важное положение нашей трансцендентальной эстетики состоит в том, что она должна быть не просто правдоподобной гипотезой, а обладать той достоверностью и несомненностью, которые требуются от теории, призванной служить органоном. Чтобы сделать эту достоверность совершенно очевидной, выберем случай, на котором её значимость станет явной и который послужит к большей ясности сказанного в § 3. I.
Предположим, что пространство и время сами по себе объективны и являются условиями возможности вещей в себе. Тогда, во-первых, обнаруживается, что о них существуют многочисленные априорные аподиктические синтетические суждения, особенно о пространстве, которое мы здесь возьмём в качестве примера.
Поскольку геометрические положения суть синтетические априорные и познаются с аподиктической достоверностью, спрашиваю: откуда вы берёте такие суждения и на что опирается наш рассудок, чтобы достичь подобных безусловно необходимых и общезначимых истин?
Путей только два: либо через понятия, либо через созерцания, причём и те, и другие могут быть даны либо априори, либо апостериори.
Эмпирические понятия (апостериорные), как и основанные на них эмпирические созерцания, не могут дать синтетического суждения, кроме лишь такого, которое тоже будет эмпирическим, то есть суждением опыта, а потому никогда не сможет содержать необходимости и абсолютной всеобщности, каковые суть отличительные черты всех геометрических положений.
Что касается первого и единственного возможного средства – достижения подобных знаний через чистые понятия или априорные созерцания, – то ясно, что из одних лишь понятий нельзя получить синтетического знания, а только аналитическое.
Возьмём, например, положение: «Двумя прямыми линиями нельзя замкнуть пространство, а значит, невозможна никакая фигура», и попробуйте вывести его из понятия прямых линий и числа два. Или же: «Из трёх прямых линий возможна фигура» – и попытайтесь сделать то же самое, исходя только из этих понятий. Все ваши усилия напрасны, и вы вынуждены прибегнуть к созерцанию, как это всегда делает геометрия.
Итак, вы даёте себе объект в созерцании. Но какого рода это созерцание – чистое априорное или эмпирическое? Если последнее, то из него никогда не получится общезначимого, а тем более аподиктического суждения, ибо опыт такого дать не может. Следовательно, вы должны дать себе объект априори в созерцании и на этом основании построить своё синтетическое суждение.
Если бы в вас не было способности априорного созерцания, если бы это субъективное условие по форме не было одновременно всеобщим априорным условием, при котором только и возможен сам объект этого (внешнего) созерцания, если бы объект (например, треугольник) был чем-то сам по себе, безотносительно к вашему субъекту, – то как бы вы могли утверждать, что то, что необходимо заложено в ваших субъективных условиях для построения треугольника, должно с необходимостью принадлежать и самому треугольнику как вещи в себе? Ведь вы не могли бы добавить к своим понятиям (о трёх линиях) ничего нового (фигуру), что с необходимостью должно было бы обнаруживаться в объекте, поскольку этот объект дан вам до познания, а не через него.
Таким образом, если бы пространство (и время) не были чистой формой вашего созерцания, содержащей априорные условия, при которых только вещи могут быть для вас внешними объектами, тогда как без этих субъективных условий они сами по себе ничто, – то вы вообще не могли бы априори устанавливать что-либо синтетическое о внешних объектах.
Следовательно, несомненно и безусловно верно (а не только возможно или вероятно), что пространство и время как необходимые условия всякого (внешнего и внутреннего) опыта суть лишь субъективные условия всего нашего созерцания, в отношении которого все объекты – лишь явления, а не вещи в себе, данные таким образом. Поэтому о форме этих объектов можно многое сказать априори, но ни малейшего – о самой вещи в себе, которая лежит в основе этих явлений.
В подтверждение этой теории об идеальности как внешнего, так и внутреннего чувства, а значит, и всех объектов чувств как простых явлений, особенно важно заметить, что всё, что в нашем познании принадлежит к созерцанию (исключая чувства удовольствия и неудовольствия, а также волю, которые вовсе не суть познания), содержит лишь отношения: места в созерцании (протяжённость), изменения мест (движение) и законы, по которым это изменение определяется (движущие силы). Однако то, что присутствует в этом месте, или что действует в самих вещах помимо изменения места, этим не дано.
Но через одни лишь отношения вещь сама по себе не познаётся. Поэтому следует заключить, что, поскольку внешнее чувство даёт нам лишь представления отношений, оно может содержать в себе только отношение объекта к субъекту в его представлении, а не внутреннее, что принадлежит самому объекту как вещи в себе.
С внутренним созерцанием дело обстоит так же. Мало того, что представления внешних чувств составляют в нём основной материал, которым мы наполняем наш ум, – само время, в которое мы помещаем эти представления (и которое предшествует в опыте осознанию их и лежит в основе как формальное условие того, как мы располагаем их в уме), уже содержит отношения последовательности, одновременности и того, что существует одновременно с последовательностью (постоянного).
То, что как представление может предшествовать всякому действию мышления, есть созерцание, а если оно содержит лишь отношения, то это форма созерцания, которая, поскольку она ничего не представляет иначе, как только через то, что нечто полагается в уме, не может быть ничем иным, кроме способа, каким ум через собственную деятельность (а именно это полагание своих представлений) и, следовательно, через самого себя подвергается воздействию, то есть внутренним чувством по своей форме.
Всё, что представляется через чувство, всегда есть явление, а потому и внутреннее чувство либо вовсе не должно было бы допускаться, либо субъект, который является его объектом, мог бы представляться через него только как явление, а не так, как он судил бы о себе сам, если бы его созерцание было чистой самодеятельностью, то есть интеллектуальным.
Вся трудность здесь состоит лишь в том, как субъект может внутренне созерцать себя самого, но эта трудность обща для всякой теории. Самосознание (апперцепция) есть простое представление «Я», и если бы через него всё многообразие в субъекте давалось самодеятельно, то внутреннее созерцание было бы интеллектуальным. У человека же это сознание требует внутреннего восприятия многообразия, которое заранее дано в субъекте, и способ, каким это многообразие даётся в уме без спонтанности, должен – ввиду этого различия – называться чувственностью.
Если способность сознания должна отыскивать (аппрехендировать) то, что содержится в уме, она должна воздействовать на него и только так может произвести созерцание себя самого, форма которого, однако, заранее заложена в уме и определяет в представлении времени способ, каким многообразие соединяется в уме. Таким образом, ум созерцает себя не так, как он представлял бы себя непосредственно через самодеятельность, а согласно тому, как он подвергается внутреннему воздействию, то есть так, как он является, а не как он есть.
III. Когда я говорю, что в пространстве и времени созерцание как внешних объектов, так и самонаблюдение ума представляют их так, как они воздействуют на наши чувства, то есть как явления, это не значит, будто эти объекты – лишь иллюзия.
В явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но поскольку эти свойства зависят лишь от способа созерцания субъекта в его отношении к данному объекту, этот объект как явление отличается от самого себя как вещи в себе.
Я не говорю: «Тела лишь кажутся существующими вне меня» или «Моя душа лишь кажется данной в моём самосознании», когда утверждаю, что качество пространства и времени, как условие их существования, в соответствии с которым я их полагаю, лежит в моём способе созерцания, а не в этих объектах самих по себе.
Было бы моей собственной ошибкой, если бы я превратил в чистую видимость то, что должен считать явлением. Но этого не происходит согласно нашему принципу идеальности всего нашего чувственного созерцания; напротив, если приписать этим формам представления объективную реальность, то нельзя избежать превращения всего в чистую иллюзию.
Ведь если рассматривать пространство и время как свойства, которые по своей возможности должны были бы обнаруживаться в вещах самих по себе, и учесть нелепости, в которые тогда попадаешь (например, что два бесконечных не-существа, не являющиеся ни субстанциями, ни чем-то реально присущим субстанциям, тем не менее должны существовать как необходимое условие бытия всех вещей и оставаться даже после уничтожения всех существующих вещей), то нельзя винить доброго Беркли за то, что он свёл тела к чистой видимости.
Более того, даже наше собственное существование, если бы оно зависело от самостоятельно существующей реальности такой несуразности, как время, превратилось бы вместе с ним в чистую иллюзию – нелепость, в которой до сих пор никто не был уличен.
Предикаты явления могут быть приписаны самому объекту в отношении к нашим чувствам (например, розе – красный цвет или запах), но иллюзия никогда не может быть предикатом объекта, потому что она приписывает ему то, что принадлежит ему лишь в отношении к чувствам или вообще к субъекту, как если бы это было свойством самого объекта (например, два уха, которые сначала приписывали Сатурну).
То, что вовсе не принадлежит объекту самому по себе, но всегда обнаруживается в его отношении к субъекту и неотделимо от представления о нём, есть явление. И так предикаты пространства и времени справедливо приписываются объектам чувств как таковым, и здесь нет иллюзии. Напротив, если я приписываю розе самой по себе красноту, Сатурну – уши или всем внешним объектам протяжённость самой по себе, не учитывая определённого отношения этих объектов к субъекту и не ограничивая этим своё суждение, – вот тогда и возникает иллюзия.
IV. В естественной теологии, где мыслят объект, который не только для нас не может быть объектом созерцания, но и сам для себя не может быть объектом чувственного созерцания, тщательно избегают приписывать ему условия времени и пространства (поскольку всё его познание должно быть созерцанием, а не мышлением, которое всегда указывает на ограниченность).
Но на каком основании можно это делать, если сначала превратить пространство и время в формы вещей самих по себе, да ещё такие, которые как априорные условия существования вещей остаются даже после уничтожения самих вещей? Ведь как условия всякого существования вообще, они должны были бы быть таковыми и для существования Бога.
Если не делать их объективными формами всех вещей, то остаётся лишь признать их субъективными формами нашего внешнего и внутреннего созерцания, которое называется чувственным потому, что оно не есть первоначальное, то есть такое, через которое само даётся существование объекта созерцания (а это, насколько мы можем судить, может принадлежать только первосущности), а зависит от существования объекта и возможно лишь постольку, поскольку способность представления субъекта подвергается его воздействию.
Нет также необходимости ограничивать способ созерцания в пространстве и времени человеческой чувственностью. Вполне возможно, что все конечные мыслящие существа в этом необходимо согласны с человеком (хотя мы не можем это утверждать), но даже при такой всеобщности они не перестают быть чувственными, именно потому, что они производны (intuitus derivativus), а не первоначальны (intuitus originarius), и, следовательно, не суть интеллектуальное созерцание, которое, по указанной причине, по-видимому, принадлежит только первосущности, но никак не существу, зависимому как в своём существовании, так и в созерцании (которое определяет его существование в отношении к данным объектам).
Впрочем, это последнее замечание должно рассматриваться в нашей эстетической теории лишь как пояснение, а не как доказательство.
Заключение трансцендентальной эстетики.Здесь мы имеем одно из необходимых средств для решения общей задачи трансцендентальной философии: как возможны синтетические априорные суждения? А именно: чистые априорные созерцания – пространство и время, в которых, если мы хотим выйти в суждении априори за пределы данного понятия, мы находим то, что не содержится в понятии, но может быть открыто априори в соответствующем ему созерцании и синтетически с ним соединено.
Однако такие суждения по этой причине никогда не могут простираться дальше объектов чувств и имеют силу лишь для предметов возможного опыта.
Почему трудно понять трансцендентальную эстетику Канта и как с этим разобраться?
Трансцендентальная эстетика Канта остается одним из самых трудных для понимания разделов «Критики чистого разума» из-за своей терминологической насыщенности, высокой степени абстракции и необходимости учитывать контекст полемики с предшествующей философской традицией. Как отмечает британский кантовед Норман Кемп Смит в своем классическом комментарии «A Commentary to Kant’s ‘Critique of Pure Reason’» (1923), «главная трудность для читателя заключается в том, что Кант неявно предполагает знакомство с философскими системами Лейбница и Юма, без которых его аргументы теряют свою мотивацию» (p. 87). Действительно, ключевые понятия трансцендентальной эстетики – априорные формы чувственности, феномены и ноумены, трансцендентальная идеальность пространства и времени – требуют переосмысления привычных эмпирических представлений. Немецкий исследователь Хайнц Хаймзет в работе «Transzendentale Ästhetik und transzendentale Logik» (1966) подчеркивает, что «Кант радикально переопределяет саму природу чувственного восприятия, превращая его из пассивного отражения мира в активную структуру познания» (S. 45). В отечественной традиции Валерий Асмус в «Иммануил Кант» (1973) обращает внимание на то, что «трансцендентальная эстетика – это не учение о прекрасном, а анализ условий возможности восприятия как такового, что часто сбивает с толку неподготовленного читателя» (с. 112). Для преодоления этих трудностей рекомендуется обращаться к развернутым комментариям, таким как «Kant’s Transcendental Idealism» Генри Эллисона (1983), где подробно разбирается связь между чувственностью и рассудком (pp. 67–89), или к работам российских исследователей, например, «Трансцендентализм в философии Канта» Леонида Калинникова (1978), где дается детальный анализ априорных форм (с. 54–62). Важно также учитывать, что, как пишет Пол Гайер в «Kant» (2006), «Кант не просто описывает пространство и время, а доказывает их необходимость как условий любого возможного опыта» (p. 73), что требует от читателя перехода от обыденного мышления к строгому философскому анализу. Таким образом, для понимания трансцендентальной эстетики необходимо сочетание терминологической работы, изучения историко-философского контекста и внимательного чтения вторичной литературы.
Место трансцендентальной эстетики в структуре "Критики чистого разума" и её взаимосвязь с последующими "Критиками" Канта".
Трансцендентальная эстетика в Критике чистого разума Канта, исследующая априорные формы чувственности – пространство и время, служит фундаментом всей его критической системы, что подчёркивается как отечественными, так и зарубежными кантоведами. Как отмечает Н.В. Мотрошилова, «без учения о пространстве и времени как чистых формах созерцания невозможен переход к анализу рассудочных категорий, поскольку именно чувственность поставляет материал для синтеза» (Мотрошилова "Критика чистого разума" Канта и современность, 1976, с. 112). В самом тексте Критики Кант утверждает, что «пространство и время суть необходимые представления, лежащие в основе всех созерцаний» (КЧР, А24/B38), что сразу же ограничивает сферу объективного знания миром явлений, исключая познание вещей в себе.









