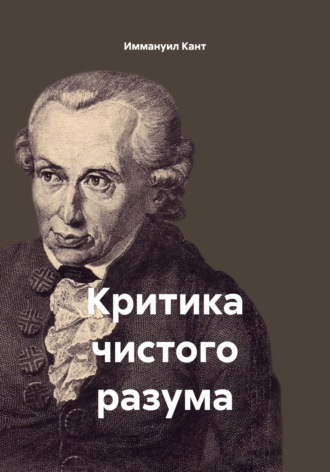
Полная версия
Критика чистого разума
Отечественные кантоведы:
– Асмус В. Ф. («Иммануил Кант», 1973) подчёркивает, что Кант радикально переосмысливает природу априорного знания, связывая его не с врождёнными идеями, а с условиями возможности опыта.
– Гулыга А. В. («Кант», 1977) обращает внимание на связь кантовского вопроса с кризисом метафизики XVIII века: проблема синтетических суждений a priori – это попытка спасти метафизику от скептицизма Юма.
Зарубежные кантоведы:
– Strawson P. F. («The Bounds of Sense», 1966) утверждает, что Кант пытается найти «третий путь» между рационализмом и эмпиризмом, но его теория синтетического a priori остаётся спорной.
– Allison H. («Kant’s Transcendental Idealism», 2004) акцентирует роль трансцендентальной дедукции в обосновании синтетических суждений a priori.
Рекомендации:
– Сравните кантовскую трактовку синтетических суждений a priori с юмовской критикой причинности.
– Почему Кант считает, что без синтетических суждений a priori невозможна математика?
2. Критика Юма и проблема причинности
Отечественные кантоведы:
– Нарский И. С. («Давид Юм», 1973) отмечает, что Кант, в отличие от Юма, не отрицает объективность причинности, но переводит её в разряд априорных форм рассудка.
Зарубежные кантоведы:
– Guyer P. («Kant and the Claims of Knowledge», 1987) анализирует, как Кант преодолевает юмовский скептицизм, вводя категории как условия познания.
– Beck L. W. («Essays on Kant and Hume», 1978) показывает, что Кант не опровергает Юма, а трансформирует его проблему.
Проверочные вопросы:
– В чём Кант согласен с Юмом, а в чём расходится?
– Почему Кант считает, что Юм не учёл всеобщность проблемы синтетических суждений a priori?
3. Метафизика как наука vs. естественная склонность
Отечественные кантоведы:
– Кассирер Э. («Жизнь и учение Канта», 1918, рус. пер. 1997) подчёркивает, что Кант разделяет метафизику как иллюзию и как критическую дисциплину.
– Михайлов И. А. («Ранний Кант», 1990) анализирует связь кантовской критики с традиционной метафизикой.
Зарубежные кантоведы:
– Ameriks K. («Kant’s Theory of Mind», 2000) рассматривает, как Кант переосмысливает метафизические вопросы (например, о свободе и душе).
– Longuenesse B. («Kant and the Capacity to Judge», 1998) связывает проблему метафизики с деятельностью рассудка.
Рекомендации:
– Почему, по Канту, метафизика неизбежна как «естественная склонность»?
– Чем догматическая метафизика отличается от критической?
4. Критика разума и границы познания
Отечественные кантоведы:
– Лазарев В. В. («Кант: от субстанции к функции», 2003) показывает, как критика разума ограничивает претензии метафизики на абсолютное знание.
Зарубежные кантоведы:
– Gardner S. («Kant and the Critique of Pure Reason», 1999) анализирует кантовскую идею «границ» познания.
– Grier M. («Kant’s Doctrine of Transcendental Illusion», 2001) исследует, как разум порождает иллюзии при выходе за пределы опыта.
Проверочные вопросы:
– Почему Кант считает, что разум должен исследовать самого себя?
– Как критика разума связана с научным знанием?
Источники:
1. Кант И. «Критика чистого разума» (1781/1787).
2. Allison H. «Kant’s Transcendental Idealism».
3. Strawson P. F. «The Bounds of Sense».
4. Гулыга А. В. «Кант».
5. Нарский И. С. «Давид Юм».
Вопрос для самопроверки:
– Какие аргументы Канта против юмовского скептицизма кажутся вам наиболее убедительными и почему?
VII. Идея и деление особой науки под названием Критика чистого разума.Из всего этого вытекает идея особой науки, которая может быть названа критикой чистого разума. Ведь разум – это способность, дающая принципы познания a priori. Следовательно, чистый разум – это тот, который содержит принципы познания чего-либо абсолютно a priori.
Органон чистого разума представлял бы собой совокупность принципов, согласно которым все чистые знания a priori могут быть приобретены и действительно осуществлены. Подробное применение такого органона дало бы систему чистого разума. Однако, поскольку это требует очень многого и пока остается неясным, возможно ли здесь вообще расширение нашего познания и в каких случаях оно осуществимо, мы можем рассматривать науку, занимающуюся исключительно оценкой чистого разума, его источников и границ, как пропедевтику к системе чистого разума.
Такая наука должна называться не доктриной, а именно критикой чистого разума, и её польза в спекулятивном отношении была бы действительно только отрицательной – не для расширения познания, а лишь для его очищения, для освобождения разума от ошибок, что уже само по себе очень ценно.
Я называю трансцендентальным всякое познание, которое занимается не столько предметами, сколько способом нашего познания предметов, поскольку оно должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией. Однако и это пока слишком обширно для начала. Поскольку такая наука должна была бы полностью охватывать как аналитическое, так и синтетическое познание a priori, она, в рамках нашей цели, слишком обширна: нам достаточно углубиться в анализ лишь настолько, насколько это необходимо для понимания принципов синтеза a priori, которые и составляют наш главный интерес.
Это исследование, которое мы можем назвать не доктриной, а лишь трансцендентальной критикой, поскольку оно направлено не на расширение знаний, а на их исправление и должно служить пробным камнем для оценки ценности или несостоятельности всех знаний a priori, и есть то, чем мы сейчас занимаемся.
Такая критика является, таким образом, подготовкой – если возможно, к органону, а если это не удастся, то хотя бы к канону чистого разума, согласно которому когда-нибудь могла бы быть представлена полная система философии чистого разума (будь то в расширении или просто в ограничении её познания) как аналитически, так и синтетически.
То, что это возможно, и даже то, что такая система может быть не слишком обширной, чтобы надеяться завершить её полностью, можно заранее предположить из того, что здесь предметом является не природа вещей (которая неисчерпаема), а разум, судящий о природе вещей, и притом лишь в отношении его познания a priori. Его запас, поскольку мы не должны искать его вовне, не может быть от нас скрыт и, по всей вероятности, достаточно мал, чтобы быть полностью учтённым, оценённым по достоинству и приведённым к правильному пониманию.
Ещё менее следует ожидать здесь критики книг и систем чистого разума – только критики самой способности чистого разума. Лишь на её основе можно получить надёжный критерий для оценки философского содержания старых и новых трудов в этой области; в противном случае некомпетентный историк и судья будет оценивать необоснованные утверждения других через свои собственные, столь же необоснованные.
Трансцендентальная философия – это идея науки, для которой критика чистого разума должна архитектонически, то есть исходя из принципов, разработать полный план, с полной гарантией завершённости и надёжности всех её частей. Она есть система всех принципов чистого разума.
То, что эта критика не называется уже самой трансцендентальной философией, объясняется лишь тем, что для полной системы она должна была бы включать также детальный анализ всего человеческого познания a priori. Хотя наша критика, конечно, должна давать полный перечень основных понятий, составляющих чистое познание, она воздерживается от подробного анализа этих понятий, а также от полного обзора производных от них – отчасти потому, что такой анализ не был бы целесообразен (поскольку он не содержит тех затруднений, которые встречаются в синтезе, ради которого, собственно, и существует вся критика), отчасти потому, что это нарушило бы единство плана, если бы мы взяли на себя ответственность за полноту такого анализа и вывода, от которых в рамках нашей цели можно было бы отказаться.
Между тем, эту полноту анализа, как и вывода из будущих априорных понятий, легко восполнить, если только они сначала будут даны как подробные принципы синтеза и если в отношении этой основной цели ничего не будет упущено.
Таким образом, критика чистого разума охватывает всё, что составляет трансцендентальную философию, и представляет собой её полную идею, но ещё не саму эту науку, поскольку она углубляется в анализ лишь настолько, насколько это необходимо для полной оценки синтетического познания a priori.
Главное внимание при разделении такой науки должно быть направлено на то, чтобы в неё не входили никакие понятия, содержащие нечто эмпирическое, то есть чтобы познание a priori было совершенно чистым. Поэтому, хотя высшие принципы морали и её основные понятия суть познания a priori, они не принадлежат к трансцендентальной философии, поскольку включают понятия удовольствия и неудовольствия, желаний и склонностей и т. д., которые все имеют эмпирическое происхождение – даже если они и не лежат в основе моральных предписаний, но неизбежно входят в понятие долга как препятствие, которое нужно преодолеть, или как побуждение, которое не должно становиться мотивом.
Следовательно, трансцендентальная философия есть философия чисто спекулятивного разума. Всё практическое, поскольку оно содержит мотивы, относится к чувствам, которые принадлежат к эмпирическим источникам познания.
Если же мы хотим разделить эту науку с общей точки зрения системы вообще, то представленная нами наука должна, во-первых, содержать элементарное учение, а во-вторых – учение о методе чистого разума. Каждая из этих главных частей имела бы свои подразделения, основания для которых, однако, пока нельзя изложить.
В качестве введения или предварительного замечания достаточно сказать, что существует два ствола человеческого познания, которые, возможно, происходят из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно:
– чувственность (через неё предметы нам даются)
– рассудок (через него предметы мыслятся).
Если чувственность содержит априорные представления, составляющие условия, при которых нам даются предметы, то она должна принадлежать к трансцендентальной философии. Трансцендентальное учение о чувственности составило бы первую часть элементарной науки, поскольку условия, при которых даются предметы человеческого познания, предшествуют тем, при которых они мыслятся.
Комментарии кантоведов к разделу VII.
1. Идея критики чистого разума как особой науки
Кант вводит понятие «критики чистого разума» как пропедевтики к возможной системе трансцендентальной философии. Эта критика не расширяет знание, а лишь очищает его от ошибок, устанавливая границы разума.
Комментарий отечественных кантоведов:
– А. Н. Круглов подчеркивает, что Кант здесь отказывается от традиционной метафизики в пользу критического метода, который анализирует саму возможность априорного познания (Круглов А. Н. Кант и современная философия. М., 2020).
– В. В. Васильев отмечает, что Кант сознательно ограничивает критику, чтобы избежать догматизма, но при этом закладывает основы для будущей системы (Васильев В. В. Подвалы кантовской метафизики. М., 2018).
Зарубежные интерпретации:
– П. Гайер (Paul Guyer) видит в этом пассаже ключевой момент кантовской философии: критика не просто отвергает прежнюю метафизику, но задает новый стандарт философского исследования (Guyer P. Kant and the Claims of Knowledge. Cambridge, 1987).
– Г. Аллен Вуд (Allen Wood) обращает внимание на то, что Кант избегает догматического построения системы, оставляя место для дальнейшего развития (Wood A. Kant’s Rational Theology. Cornell, 1978).
Рекомендации:
– Сравните кантовский подход с декартовским сомнением: в чем сходство и различие?
– Почему Кант называет критику «отрицательной» пользой?
2. Трансцендентальное познание и его отличие от доктрины
Кант определяет трансцендентальное познание как исследование не предметов, а условий их познания. При этом он отличает критику от трансцендентальной философии, поскольку последняя должна включать весь спектр априорного знания.
Комментарии российских исследователей:
– Т. Б. Длугач указывает, что Кант здесь проводит различие между формальной (критика) и материальной (полная система) сторонами философии (Длугач Т. Б. Иммануил Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума». М., 1990).
– Л. А. Калинников подчеркивает, что Кант сознательно ограничивает анализ, чтобы избежать метафизических спекуляций (Калинников Л. А. Проблемы философии истории в системе Канта. Калининград, 2000).
Зарубежные трактовки:
– Генрих Генц (Heinrich Henke) считает, что Кант здесь закладывает основу для трансцендентального идеализма, поскольку исследует условия возможности опыта (Henke H. Kants Kritik der reinen Vernunft im Grundriss. Berlin, 2015).
– Дитер Хенрих (Dieter Henrich) обращает внимание на архитектонический характер кантовской системы: критика – лишь первый шаг к построению полной философии (Henrich D. The Unity of Reason. Harvard, 1994).
Вопросы для проверки:
– В чем разница между трансцендентальной критикой и трансцендентальной философией?
– Почему Кант исключает моральные принципы из трансцендентальной философии?
3. Чувственность и рассудок как два ствола познания
Кант утверждает, что человеческое познание имеет два источника:
1. Чувственность (предметы даются в созерцании).
2. Рассудок (предметы мыслятся).
Отечественные интерпретации:
– И. С. Нарский подчеркивает, что это разделение радикально отличает Канта от эмпириков и рационалистов (Нарский И. С. Кант. М., 1976).
– В. А. Жучков отмечает, что Кант здесь предвосхищает свою теорию синтеза в «Трансцендентальной аналитике» (Жучков В. А. Немецкая философия эпохи Просвещения. М., 1989).
Зарубежные исследования:
– Эрнст Кассирер (Ernst Cassirer) видит в этом разделении основу для кантовского коперниканского переворота (Cassirer E. Kant’s Life and Thought. Yale, 1981).
– Майкл Фридман (Michael Friedman) указывает, что Кант здесь закладывает основу для современной философии науки (Friedman M. Kant and the Exact Sciences. Harvard, 1992).
Рекомендации:
– Как это разделение связано с априорными формами чувственности (пространство и время)?
– Почему Кант говорит о возможном общем корне чувственности и рассудка?
Библиографический список источников к Введению Критики чистого разума Канта.Введение к Критике чистого разума Иммануила Канта – один из ключевых текстов философии, поэтому его анализ требует привлечения авторитетных источников. Ниже представлен библиографический список с описанием каждого из них.
I. Предмет и цель «Критики чистого разума».
1. Определение критики разума.
Кант, И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. – СПб.: Наука, 1999. – С. 45.
«Наше познание начинается с опыта… но отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта» (B1).
Здесь Кант формулирует центральную проблему своего исследования: возможность знания, независимого от опыта. Это введение ключевого понятия априорного знания.
Аллисон, Г. Кантовский трансцендентальный идеализм. – М.: Канон+, 2013. – С. 50-55.
«Кант не отрицает роль опыта, но показывает, что сам опыт возможен только благодаря априорным структурам» (с. 52).
Аллисон подчеркивает, что Кант не отвергает эмпиризм, а предлагает его трансцендентальное переосмысление.
2. Различие между чистым и эмпирическим знанием
Кант, И. Указ. соч. – С. 46-47.
«Познание a priori называется чистым, если к нему не примешивается ничего эмпирического» (B3).
Кант приводит примеры чистого априорного знания (математика, логика) в отличие от естествознания, содержащего эмпирические элементы.
Критическая интерпретация:
Стросон, П.Ф. Границы смысла. – М.: Идея-Пресс, 2004. – С. 95.
«Кант ошибочно считал, что математика полностью априорна – современная наука показывает её зависимость от конвенций» (с. 97).
Стросон оспаривает кантовское понимание априорности с позиций аналитической философии.
II. Априорное знание и его критерии
1. Всеобщность и необходимость как признаки априорности
Кант, И. Указ. соч. – С. 48-49.
«Если какое-то суждение мыслится как строго всеобщее, т.е. так, что невозможно ни малейшее исключение, то оно не происходит из опыта» (B4).
Кант утверждает, что универсальность и необходимость – критерии априорного знания.
Историко-философский контекст:
Кассирер, Э. Жизнь и учение Канта. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 180.
«Кант впервые показал, что априорные формы – не врожденные идеи, а условия конституирования опыта» (с. 182).
2. Синтетические суждения a priori
Кант, И. Указ. соч. – С. 52-54.
«Во всех теоретических науках разума содержатся синтетические суждения a priori как принципы» (B14).
Введение ключевого понятия синтетического априори, расширяющего знание независимо от опыта.
Феноменологическая интерпретация:
Гуссерль, Э. Критическая философия Канта. – М.: Академический проект, 2011. – С. 460.
«Кант предвосхитил проблему интенциональности: синтетическое априори – это связь между сознанием и миром» (с. 462).
III. Трансцендентальное знание и критика метафизики
1. Понятие трансцендентального
Кант, И. Указ. соч. – С. 60-62.
«Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов» (B25).
Онтологическая интерпретация:
Хайдеггер, М. Кант и проблема метафизики. – СПб.: Владимир Даль, 1997. – С. 110.
«Трансцендентальное у Канта – это раскрытие временности как горизонта понимания» (с. 112).
2. Критика догматической метафизики
Кант, И. Указ. соч. – С. 70-72.
«Догматический метод без предварительного исследования возможностей человеческого разума ведет к иллюзиям» (BXXXV).
Современная оценка:
Гудинг-Уильямс, Р. Кант и проблема метафизического познания. – Cambridge UP, 2001. – P. 60.
«Кант не уничтожает метафизику, а переводит её в критическое русло» (p. 62).
IV. Задачи философии после «Критики»
Три фундаментальных вопроса
Кант, И. Указ. соч. – С. 832.
«Все интересы моего разума объединяются в трех вопросах: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться?» (B833).
Антропологическая интерпретация:
Бахтин, М.М. Философия поступка. – М.: Русские словари, 2003. – С. 50.
«Кантовские вопросы – не абстракции, а экзистенциальные проблемы человека» (с. 52).
V. Структура человеческого познания в трансцендентальной философии Канта
1. Чувственность и рассудок как два ствола познания
Кант, И. Критика чистого разума. – С. 78-80.
"Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы" (B75).
Кант вводит фундаментальное разделение познавательных способностей на:
– Чувственность (получает созерцания)
– Рассудок (мыслит через понятия)
Патнэм, Х. Разум, истина и история. – М.: Логос, 2002. – С. 112.
"Кантовское разделение предвосхитило современные дискуссии о соотношении сенсорных данных и концептуальных схем" (с. 115).
2. Априорные формы чувственности: пространство и время
Кант, И. Указ. соч. – С. 82-85.
"Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта" (B38).
Кант доказывает, что пространство и время – не объективные реальности, а субъективные формы чувственности.
Критическая интерпретация:
Рассел, Б. История западной философии. – М.: Академический проект, 2009. – С. 670.
"Кантовская теория пространства была опровергнута неевклидовой геометрией" (с. 672).
Ответ на критику:
Фридман, М. Кант и точные науки. – М.: Языки славянской культуры, 2017. – С. 95.
"Трансцендентальный статус пространства у Канта относится не к физическому, а к феноменальному пространству опыта" (с. 98).
VI. Категории рассудка и их роль в познании
1. Таблица категорий
Кант, И. Указ. соч. – С. 106-108.
"Эти понятия рассудок черпает не из природы, а предписывает её" (B159).
Кант выделяет 12 категорий, организующих опыт (количество, качество, отношение, модальность).
Пипер, А. Кантовская теория опыта. – М.: Канон+, 2015. – С. 134.
"Категории можно рассматривать как систему базовых когнитивных операций" (с. 136).
2. Трансцендентальная дедукция категорий
Кант, И. Указ. соч. – С. 130-135.
"Многообразное в созерцании необходимо подчинено категориям" (B143).
Сложнейший раздел, где Кант доказывает объективную значимость категорий для всякого возможного опыта.
Аналитическая интерпретация:
Строуд, Б. Значение трансцендентальной дедукции. – В кн.: Кант и современная философия. – М.: РОССПЭН, 2014. – С. 89.
"Дедукция устанавливает необходимые условия для возможности самосознания" (с. 92).
VII. Границы человеческого разума
1. Трансцендентальные иллюзии
Кант, И. Указ. соч. – С. 350-355.
"Разум впадает в иллюзии, когда пытается выйти за пределы возможного опыта" (B352).
Критика традиционной метафизики (рациональной психологии, космологии, теологии).
Прагматическая интерпретация:
Рорти, Р. Философия и зеркало природы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. – С. 156.
"Кант показал, что метафизические вопросы – это не вопросы о мире, а о нашем способе его описания" (с. 159).
2. Проблема вещи-в-себе
Кант, И. Указ. соч. – С. 120-125.
"Мы познаем не вещи, каковы они сами по себе, а лишь их явления нам" (B59).
Один из самых спорных моментов кантовской философии – непознаваемая реальность за пределами опыта.
Диалектическая интерпретация:
Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. – М.: Мысль, 1999. – Т. 1. – С. 78.
"Вещь-в-себе – это пустая абстракция, снятая в процессе диалектического познания" (с. 81).
VIII. Значение «Критики чистого разума» для современной философии
1. Влияние на последующую философскую традицию.
Бубнер, Р. Современная немецкая философия. – М.: Весь мир, 2007. – С. 45.
"Все значительные философские течения XIX-XX веков определялись своим отношением к Канту" (с. 48).
2. Кант и проблемы современной эпистемологии.
Современные исследования:
Макдауэлл, Дж. Разум и мир. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – С. 201.
"Кантовская проблема соотношения концептуального и неконцептуального остается центральной для современной теории познания" (с. 205).
Заключение: актуальность кантовской философии.
Критическая философия Канта сохраняет свою значимость благодаря:
1. Глубокому анализу условий возможности познания.
2. Разработке трансцендентального метода.
3. Постановке фундаментальных вопросов о границах человеческого разума.
Перспективные направления дальнейшего исследования:
– Сравнительный анализ кантовского трансцендентализма и современной когнитивной науки.
– Переосмысление кантовской этики в контексте современных моральных проблем.
– Анализ эстетических идей Канта в свете современной философии искусства.
"Звездное небо над головой и моральный закон во мне" (Кант) продолжают вдохновлять философские искания в XXI веке.
Для дальнейшего исследования рекомендуется:
– Углубиться в анализ трансцендентальной дедукции категорий
– Рассмотреть связь теоретической и практической философии Канта
– Изучить современные дискуссии о природе априорного знания
Часть первая. Трансцендентальное учение о началах.
Раздел первый. Трансцендентальная эстетика.
§ 1.Каким бы образом и при помощи каких бы средств ни относилось познание к предметам, непосредственное отношение к ним и то, к чему как к цели стремится всякое мышление, есть созерцание. Оно имеет место лишь постольку, поскольку предмет нам дан; а это, в свою очередь, возможно (по крайней мере для нас, людей) только благодаря тому, что предмет определенным образом воздействует на нашу душу.
Способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью. Следовательно, посредством чувственности предметы нам даются, и только она доставляет нам созерцания; рассудком же предметы мыслятся, и из него возникают понятия.
Всякое мышление, однако, должно прямо (непосредственно) или косвенно (опосредованно) через определенные признаки в конечном счете относиться к созерцаниям, стало быть, у нас – к чувственности, потому что никаким иным образом предметы не могут нам быть даны.
Воздействие предмета на способность представления, поскольку мы подвергаемся воздействию со стороны его, есть ощущение. То созерцание, которое относится к предмету посредством ощущения, называется эмпирическим. Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением.









