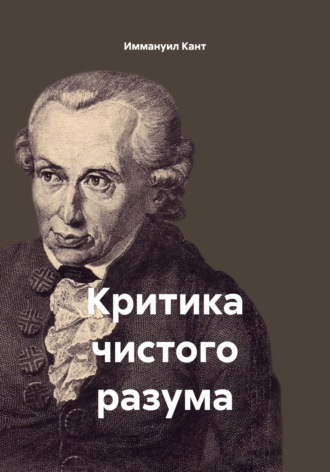
Полная версия
Критика чистого разума
Эта трудность не больше и не меньше, чем вопрос о том, как я вообще могу быть для себя объектом созерцания и внутреннего восприятия.
Доказательство необходимости такого положения
Если считать пространство чистой формой явлений внешних чувств, то:
– Время (которое не есть объект внешнего созерцания) мы можем представить только через образ линии, иначе мы не постигли бы единство его измерения.
– Определение длительности или моментов времени для внутренних восприятий мы заимствуем из изменчивых явлений внешних вещей.
Следовательно, определения внутреннего чувства должны быть упорядочены во времени как явления – так же, как мы упорядочиваем явления внешних чувств в пространстве.
Поэтому, если мы признаем, что познаем внешние объекты лишь постольку, поскольку внешне затронуты, то должны признать и то, что через внутреннее чувство мы созерцаем себя лишь так, как внутренне затронуты собой – то есть познаем собственное субъективное начало только как явление, а не как оно есть само по себе.
Примечания1. Движение объекта в пространстве не относится к чистой науке (например, геометрии), так как его подвижность познается только через опыт. Но движение как описание пространства – чистый акт синтеза многообразия внешнего созерцания продуктивным воображением. Оно относится не только к геометрии, но и к трансцендентальной философии.
2. Непонятно, почему видят трудность в том, что внутреннее чувство затронуто нами самими. Любой акт внимания – пример этого: рассудок определяет внутреннее чувство согласно связи, которую он мыслит, приводя его к созерцанию, соответствующему синтезу.
§ 25. Самосознание и познание себя.В трансцендентальном синтезе многообразия представлений (в изначальном синтетическом единстве апперцепции) я осознаю себя не как я являюсь и не как я есть сам по себе, а лишь то, что я есть. Это представление – мышление, а не созерцание.
Для познания себя, помимо акта мышления (сводящего многообразие возможного созерцания к единству апперцепции), требуется еще определенный вид созерцания, которым это многообразие дается.
Мое существование – не явление (и тем более не иллюзия), но определение моего существования возможно только согласно форме внутреннего чувства – то есть так, как многообразие, которое я связываю, дано мне во внутреннем созерцании.
Таким образом, я познаю себя не таким, каков я сам по себе, а лишь таким, каким являюсь себе.
Самосознание ≠ самопознание
Сознание себя – еще не познание себя, несмотря на все категории, которые составляют мышление объекта вообще через связь многообразия в апперцепции.
Как для познания внешнего объекта, помимо мышления объекта вообще (в категории), нужно еще созерцание, чтобы определить это понятие, так и для познания себя, помимо сознания (того, что я мыслю), требуется созерцание многообразия во мне, чтобы определить этот акт мышления.
Я существую как интеллигенция, сознающая лишь свою способность связывать, но в отношении многообразия, которое надо связать, я подчинен ограничивающему условию – внутреннему чувству. Оно позволяет сделать эту связь наглядной только согласно временным отношениям (лежащим вне собственно рассудочных понятий).
Поэтому я могу познать себя лишь таким, каким являюсь себе в отношении созерцания (которое не может быть интеллектуальным и дано рассудком), а не таким, каким познавал бы себя, если бы мое созерцание было интеллектуальным.
Примечание
«Я мыслю» выражает акт определения моего существования. Само существование уже дано, но способ, как я его определяю (то есть как полагаю в себе относящееся к нему многообразие), еще не дан.
Для этого требуется самосозерцание, имеющее априорную основу – время (чувственную форму, принадлежащую к восприимчивости).
Если у меня нет иного самосозерцания, которое давало бы определяющее во мне (чью спонтанность я осознаю) до акта определения (как время дает определяемое), то я не могу определить свое существование как самодеятельного существа. Я лишь представляю спонтанность своего мышления (определения), а мое существование остается определяемым только как существование явления.
Однако эта спонтанность позволяет мне называть себя интеллигенцией.
§ 26 Трансцендентальная дедукция всеобщего возможного применения чистых рассудочных понятий в опыте.В метафизической дедукции было показано априорное происхождение категорий через их полное соответствие общим логическим функциям мышления, а в трансцендентальной дедукции (§§ 20, 21) была представлена их возможность как априорных знаний о предметах созерцания вообще. Теперь же предстоит объяснить, каким образом категории позволяют априорно познавать предметы, которые могут являться нашим чувствам – не по форме их созерцания, но по законам их связи, – предписывая тем самым природе её законы и даже делая её возможной. Ведь без такой применимости оставалось бы неясным, почему всё, что является нашим чувствам, необходимо подчиняется законам, возникающим априори исключительно из рассудка.
Прежде всего замечу, что под синтезом аппрегензии я понимаю соединение многообразия в эмпирическом созерцании, благодаря которому становится возможным восприятие, то есть эмпирическое сознание этого созерцания (как явления).
У нас есть априорные формы как внешнего, так и внутреннего чувственного созерцания – представления о пространстве и времени, и синтез аппрегензии многообразия явлений всегда должен им соответствовать, поскольку он возможен только согласно этим формам. Однако пространство и время представляются априори не только как формы чувственного созерцания, но и как созерцания сами по себе (содержащие многообразие), а значит, с определением единства этого многообразия в них (см. трансцендентальную эстетику). Таким образом, единство синтеза многообразия – как вне нас, так и в нас – и, следовательно, связь, которой должно соответствовать всё, что определяется в пространстве или времени, дано априори как условие синтеза всякой аппрегензии одновременно с (но не внутри) этими созерцаниями.
Но это синтетическое единство может быть только единством связи многообразия данного созерцания вообще в изначальном сознании согласно категориям, применённым к нашему чувственному созерцанию. Следовательно, всякий синтез, делающий возможным само восприятие, подчинён категориям, а поскольку опыт есть познание через связанные восприятия, категории являются условиями возможности опыта и потому априори значимы для всех его предметов.
Пространство, представленное как предмет (как это требуется в геометрии), содержит не только форму созерцания, но и объединение данного многообразия согласно форме чувственности в наглядное представление, так что форма созерцания даёт лишь многообразие, а формальное созерцание – единство представления. В эстетике я отнёс это единство лишь к чувственности, чтобы подчеркнуть, что оно предшествует всякому понятию, хотя и предполагает синтез, не принадлежащий чувствам, но благодаря которому впервые становятся возможными все понятия пространства и времени. Поскольку пространство и время как созерцания впервые даны через этот синтез (когда рассудок определяет чувственность), единство этого созерцания априори принадлежит пространству и времени, а не понятию рассудка (§ 24).
Например, когда я превращаю эмпирическое созерцание дома в восприятие через аппрегензию его многообразия, в основе лежит необходимое единство пространства и внешнего чувственного созерцания вообще, и я как бы очерчиваю его форму в соответствии с этим синтетическим единством многообразия в пространстве. Но то же самое синтетическое единство, если абстрагироваться от формы пространства, коренится в рассудке и есть категория синтеза однородного в созерцании вообще – категория величины, которой должен полностью соответствовать синтез аппрегензии (то есть восприятие).
Таким образом доказывается, что эмпирический синтез аппрегензии необходимо должен соответствовать синтезу апперцепции, который интеллектуален и полностью априорно содержится в категории. Это одна и та же спонтанность, которая там, под именем воображения, а здесь – рассудка, вносит связь в многообразие созерцания.
В другом примере, воспринимая замерзание воды, я аппрегенирую два состояния (жидкости и твёрдости) как находящиеся во временном отношении друг к другу. Но во времени, которое я кладу в основу явления как внутреннего созерцания, я необходимо представляю себе синтетическое единство многообразия, без которого это отношение не могло бы быть дано в созерцании определённым образом (в отношении временной последовательности). Однако это синтетическое единство, как априорное условие, под которым я связываю многообразие созерцания вообще (если абстрагироваться от постоянной формы моего внутреннего созерцания – времени), есть категория причины. Применяя её к чувственности, я определяю всё происходящее во времени вообще согласно его отношению. Таким образом, аппрегензия в таком событии (а значит, и само событие, поскольку оно может быть воспринято) подчинена понятию отношения действия и причины – и так во всех остальных случаях.
Категории – это понятия, предписывающие явлениям, а значит, природе как совокупности всех явлений (natura materialiter spectata), априорные законы. Возникает вопрос: если они не выводятся из природы и не сообразуются с ней как образцом (иначе они были бы лишь эмпирическими), то как возможно, что природа должна им подчиняться? Иными словами, как они могут априори определять связь многообразия в природе, не заимствуя её оттуда?
Решение этой загадки таково:
Нет ничего более удивительного в том, что законы явлений природы должны согласовываться с рассудком и его априорной формой (то есть его способностью связывать многообразие вообще), чем в том, что сами явления должны соответствовать априорной форме чувственного созерцания. Законы существуют не в явлениях самих по себе, а лишь по отношению к субъекту, которому они присущи, поскольку он обладает рассудком – точно так же, как явления существуют не сами по себе, а лишь по отношению к тому же существу, поскольку оно обладает чувствами. Вещам самим по себе их закономерность принадлежала бы необходимо, даже без познающего их рассудка. Но явления – это лишь представления о вещах, которые остаются непознанными в том, что они есть сами по себе. Как чистые представления, они не подчинены никакому закону связи, кроме того, который предписывает связующая способность.
Связь многообразия чувственного созерцания осуществляется воображением, которое зависит от рассудка (в отношении единства интеллектуального синтеза) и от чувственности (в отношении многообразия аппрегензии). Поскольку всякое возможное восприятие зависит от синтеза аппрегензии, а этот эмпирический синтез зависит от трансцендентального (то есть от категорий), то все возможные восприятия, а значит, и всё, что может войти в эмпирическое сознание (то есть все явления природы в их связи), должны подчиняться категориям. Природа (рассматриваемая просто как природа вообще – natura formaliter spectata) зависит от них как от первоосновы своей необходимой закономерности.
Однако чистый рассудок не может предписывать явлениям априорные законы сверх тех, на которых основывается природа вообще как закономерность явлений в пространстве и времени. Частные законы, касающиеся эмпирически определённых явлений, не могут быть полностью выведены из категорий, хотя и подчиняются им. Для их познания необходим опыт. Но априорные законы дают нам руководство для опыта вообще и для познания его предметов.
§ 27 Итог этой дедукции рассудочных понятий.Мы не можем мыслить ни одного предмета без категорий и не можем познать ни один мыслимый предмет без созерцаний, соответствующих этим понятиям. Все наши созерцания чувственны, и познание, поскольку его предмет дан, эмпирично. Но эмпирическое познание есть опыт. Следовательно, для нас возможно только априорное познание предметов возможного опыта.
Чтобы не опасаться преждевременно неблагоприятных последствий этого положения, замечу, что категории в мышлении не ограничены условиями нашего чувственного созерцания, а имеют неограниченное поле. Лишь познание того, что мы мыслим – определение объекта – требует созерцания. При его отсутствии мысль об объекте всё равно может иметь истинные и полезные последствия для разумного применения субъектом своих способностей, поскольку оно направлено не всегда на определение объекта (то есть на познание), но и на определение субъекта и его воления – что здесь не может быть рассмотрено.
Но это знание, ограниченное лишь предметами опыта, не потому всецело заимствовано из опыта. Что касается чистых созерцаний и чистых рассудочных понятий, то это элементы знания, которые обнаруживаются в нас a priori.
Теперь есть только два пути, на которых можно мыслить необходимое соответствие опыта с понятиями о его предметах: либо опыт создает эти понятия, либо эти понятия делают опыт возможным. Первое не имеет места в отношении категорий (как и чистых чувственных созерцаний), ибо они суть понятия a priori, следовательно, независимы от опыта (утверждение об их эмпирическом происхождении было бы своего рода eneratio aequivoca). Остается, таким образом, только второе (своего рода система эпигенеза чистого разума): а именно, что категории со стороны рассудка содержат основания возможности всякого опыта вообще.
Но каким образом они делают опыт возможным и какие принципы возможности опыта они дают при своем применении к явлениям, об этом подробнее расскажет следующая глава о трансцендентальном употреблении способности суждения.
Если бы кто-нибудь попытался предложить средний путь между двумя указанными единственными вариантами, а именно, что категории – ни самостоятельно мыслимые первые принципы a priori нашего познания, ни заимствованные из опыта, а субъективные задатки мышления, вложенные в нас вместе с нашим существованием и устроенные нашим Творцом так, что их применение точно согласуется с законами природы, по которым протекает опыт (своего рода система преформации чистого разума), – то (помимо того, что при таком предположении нельзя было бы увидеть предел, до которого можно было бы довести гипотезу о предустановленных задатках для будущих суждений) против этого среднего пути решающим возражением было бы то, что в таком случае категориям недоставало бы необходимости, которая существенно принадлежит их понятию.
Например, понятие причины, утверждающее необходимость следствия при предполагаемом условии, было бы ложным, если бы оно основывалось лишь на произвольной субъективной необходимости, вложенной в нас, соединять определенные эмпирические представления согласно такому правилу отношения. Я не мог бы тогда сказать: «Следствие связано с причиной в объекте (т.е. необходимо)», а лишь: «Я устроен так, что могу мыслить это представление только как связанное». Именно этого больше всего и желает скептик, ибо тогда все наше знание, претендующее на объективную значимость, было бы чистой видимостью. Найдется немало людей, которые не стали бы признавать эту субъективную необходимость (которую нужно ощущать); по крайней мере, нельзя было бы спорить с кем-либо о том, что основывается исключительно на устройстве его субъекта.
Краткое понятие этой дедукции.Она есть изложение чистых рассудочных понятий (а с ними и всего теоретического знания a priori) как принципов возможности опыта, а опыта – как определения явлений в пространстве и времени вообще; наконец, всего этого – из принципа изначального синтетического единства апперцепции как формы рассудка в отношении к пространству и времени как изначальным формам чувственности.
Только до этого места я считаю деление на параграфы необходимым, поскольку мы имели дело с элементарными понятиями. Теперь, когда мы хотим показать их применение, изложение может продолжаться непрерывно, без такого деления.
Книга вторая. Аналитика основоположений.Общая логика построена на основе плана, который полностью соответствует разделению высших познавательных способностей. Эти способности суть: рассудок, способность суждения и разум. Соответственно, в своей аналитической части общая логика рассматривает понятия, суждения и умозаключения, следуя функциям и порядку этих душевных сил, которые объединяются под общим названием рассудка.
Поскольку упомянутая чисто формальная логика абстрагируется от всякого содержания познания (будь оно чистое или эмпирическое) и занимается исключительно формой мышления (дискурсивного познания) вообще, то в своей аналитической части она может включать также канон для разума, форма которого имеет свои точные предписания. Эти предписания могут быть усмотрены a priori, без учета особой природы используемого в них познания, путем простого разложения действий разума на их моменты.
Трансцендентальная логика, ограниченная определенным содержанием, а именно исключительно чистыми априорными знаниями, не может следовать этому делению. Ибо оказывается, что трансцендентальное применение разума вовсе не обладает объективной значимостью и, следовательно, не принадлежит к логике истины, то есть к аналитике, а как логика видимости требует особого отдела схоластического учения под названием трансцендентальной диалектики.
Таким образом, рассудок и способность суждения имеют в трансцендентальной логике свой канон объективно значимого, а значит, истинного применения и потому принадлежат к ее аналитической части. Однако разум в своих попытках a priori выносить суждения о предметах и расширять познание за пределы возможного опыта оказывается целиком диалектическим, и его мнимые утверждения вовсе не подходят под канон, каковой должна содержать аналитика.
Следовательно, аналитика основоположений будет лишь каноном для способности суждения, который учит применять рассудочные понятия, содержащие условия для априорных правил, к явлениям. По этой причине, рассматривая собственные основоположения рассудка в качестве темы, я буду использовать название «учение о способности суждения», что точнее обозначает данную задачу.
Введение. О трансцендентальной способности суждения вообщеЕсли рассудок вообще определяется как способность создавать правила, то способность суждения есть способность подводить под правила, то есть определять, подпадает ли нечто под данное правило (casus datae legis) или нет. Общая логика не содержит никаких предписаний для способности суждения и не может их содержать. Поскольку она абстрагируется от всякого содержания познания, ей остается лишь аналитически разлагать одну лишь форму познания в понятиях, суждениях и умозаключениях и тем самым создавать формальные правила всякого применения рассудка. Если бы она захотела вообще показать, как следует подводить под эти правила, то есть определять, подпадает ли нечто под них или нет, это можно было бы сделать только посредством другого правила. Но это правило, именно потому, что оно есть правило, вновь потребовало бы наставления для способности суждения. Таким образом, хотя рассудок можно научить и вооружить правилами, способность суждения есть особый талант, который нельзя научить, а можно лишь развить упражнением. Поэтому она составляет специфику так называемого природного ума, недостаток которого никакая школа не может восполнить. Ибо хотя школа может снабдить ограниченный рассудок множеством правил, заимствованных из чужого понимания, и даже как бы привить их ему, способность правильно применять эти правила должна принадлежать самому ученику, и никакое правило, которое можно было бы предписать ему с этой целью, не застраховано от злоупотребления при отсутствии такого природного дара.
Так, врач, судья или политик может держать в голове множество прекрасных патологических, юридических или политических правил в такой степени, что сам становится основательным учителем в этой области, и все же легко ошибается в их применении – либо из-за недостатка природной способности суждения (хотя и не рассудка), так что он может понимать общее in abstracto, но не способен определить, подходит ли конкретный случай под это общее, либо потому, что он не был достаточно подготовлен к такому суждению примерами и практикой. В этом и состоит единственная великая польза примеров: они оттачивают способность суждения. Что же касается правильности и точности рассудочного познания, то примеры обычно скорее вредят ему, поскольку лишь редко адекватно выполняют условие правила (как casus in terminis) и, кроме того, часто ослабляют то напряжение рассудка, которое требуется, чтобы понимать правила в их всеобщности, независимо от частных обстоятельств опыта, и потому в конце концов приучают больше пользоваться ими как формулами, а не основоположениями. Таким образом, примеры – это ходунки для способности суждения, без которых тот, кому не хватает природного таланта, обойтись не может.
Недостаток способности суждения есть собственно то, что называют глупостью, и против этого недостатка нет никакого средства. Тупой или ограниченный ум, которому недостает лишь надлежащей степени рассудка и его собственных понятий, можно хорошо вооружить обучением, даже вплоть до учености. Но так как в таких случаях обычно не хватает и способности суждения (чего не исправишь), то нередко можно встретить весьма ученых мужей, которые в применении своей науки часто обнаруживают этот неустранимый недостаток.
Хотя общая логика и не может давать предписаний для способности суждения, с трансцендентальной логикой дело обстоит совершенно иначе. Более того, может показаться, что именно исправление и обеспечение способности суждения в применении чистого рассудка посредством определенных правил составляет ее главную задачу. Ибо для того, чтобы расширить область рассудка в сфере чистых априорных знаний, философия как доктрина, по-видимому, вовсе не нужна или даже неуместна, так как после всех предпринятых до сих пор попыток в этом направлении не удалось завоевать сколько-нибудь значительной территории. Но как критика, предназначенная предотвращать ошибки способности суждения (lapsus judicii) в применении тех немногих чистых рассудочных понятий, которые у нас есть (хотя польза от этого лишь отрицательна), философия мобилизует всю свою проницательность и искусство проверки.
Трансцендентальная философия обладает особенностью: помимо правила (или, точнее, общего условия для правил), данного в чистом рассудочном понятии, она также может а priori указать случай, к которому это правило должно быть применено. Причина этого преимущества, которым она обладает перед всеми другими науками (кроме математики), заключается в том, что она имеет дело с понятиями, которые а priori соотносятся со своими объектами. Следовательно, их объективная значимость не может быть доказана а posteriori, ибо это оставило бы их достоинство незатронутым. Напротив, она должна одновременно излагать условия, при которых объекты могут быть даны в соответствии с этими понятиями, в виде общих, но достаточных признаков. В противном случае они были бы лишены всякого содержания, то есть являлись бы лишь логическими формами, а не чистыми рассудочными понятиями.
Эта трансцендентальная доктрина способности суждения будет включать два основных раздела:
1. Первый, рассматривающий чувственное условие, при котором могут применяться чистые рассудочные понятия, то есть схематизм чистого рассудка.
2. Второй, посвящённый синтетическим суждениям, которые вытекают а priori из чистых рассудочных понятий при этих условиях и лежат в основе всех остальных а priori знаний – то есть принципам чистого рассудка.
Трансцендентальное учение о способности суждения. (или Аналитика принципов). Глава первая. О схематизме чистых рассудочных понятий.Во всех случаях подведения объекта под понятие представление первого должно быть однородным с последним, то есть понятие должно содержать то, что представлено в подводимом под него объекте. Именно это означает выражение: «объект содержится под понятием». Так, эмпирическое понятие тарелки имеет однородность с чистым геометрическим понятием круга, поскольку круглая форма, мыслимая в первом, может быть созерцаема во втором.
Однако чистые рассудочные понятия в сравнении с эмпирическими (и вообще чувственными) созерцаниями совершенно неоднородны и никогда не могут быть обнаружены ни в каком созерцании. Как же тогда возможно подведение последних под первые, то есть применение категорий к явлениям, если никто не скажет, что, например, причинность можно созерцать чувствами и что она содержится в явлении? Этот естественный и важный вопрос как раз и делает необходимой трансцендентальную доктрину способности суждения, чтобы показать возможность применения чистых рассудочных понятий к явлениям вообще. В других науках, где понятия, посредством которых объект мыслится всеобщим образом, не столь резко отличаются от тех, что представляют его конкретно, нет нужды в особом объяснении применения первых ко вторым.
Очевидно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категорией, а с другой – с явлением, что делает возможным применение первой ко второму. Это опосредствующее представление должно быть чистым (свободным от всего эмпирического) и в то же время, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой – чувственным. Таковым является трансцендентальная схема.









