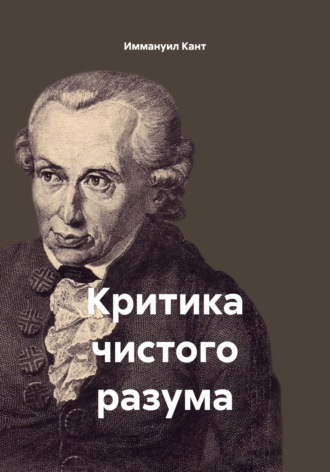
Полная версия
Критика чистого разума
Рассудочное понятие содержит чистую синтетическую единство многообразия вообще. Время как формальное условие многообразия внутреннего чувства (а значит, и связи всех представлений) содержит а priori многообразие в чистом созерцании. Трансцендентальное определение времени однородно с категорией (которая составляет его единство), поскольку оно всеобще и основывается на правиле а priori. С другой стороны, оно однородно с явлением, поскольку время содержится в каждом эмпирическом представлении многообразия. Таким образом, применение категории к явлениям становится возможным благодаря трансцендентальному определению времени, которое, будучи схемой рассудочных понятий, опосредует подведение последних под первые.
Из того, что было показано в дедукции категорий, надеюсь, никто не усомнится в ответе на вопрос: имеют ли эти чистые рассудочные понятия лишь эмпирическое или также трансцендентальное применение – то есть относятся ли они а priori к явлениям только как условия возможного опыта или же могут распространяться на вещи сами по себе (без ограничения нашей чувственностью). Мы видели, что понятия совершенно невозможны и не могут иметь никакого значения, если им (или хотя бы их элементам) не дан объект, а значит, они не могут относиться к вещам самим по себе (независимо от того, даны ли они нам и как). Далее, единственный способ, каким объекты даются нам, – это модификация нашей чувственности. Наконец, чистые понятия а priori, помимо функции рассудка в категории, должны содержать а priori формальные условия чувственности (особенно внутреннего чувства), которые заключают в себе общее условие, при котором категория может быть применена к какому-либо объекту.
Мы назовём эту формальную и чистую условие чувственности, ограничивающее применение рассудочного понятия, схемой этого понятия, а действие рассудка с такими схемами – схематизмом чистого рассудка.
Схема сама по себе всегда есть лишь продукт воображения, но поскольку синтез последнего направлен не на единичное созерцание, а исключительно на единство в определении чувственности, схему следует отличать от образа. Например, если я поставлю пять точек подряд: ….., это будет образ числа пять. Напротив, если я мыслю число вообще (которое может быть пятью или ста), это мышление есть скорее представление метода изображения множества (например, тысячи) согласно определённому понятию, чем сам образ, который в последнем случае я едва ли мог бы охватить и сравнить с понятием. Это представление общего метода воображения для создания образа, соответствующего понятию, я и называю схемой данного понятия.
В действительности в основе наших чистых чувственных понятий лежат не образы объектов, а схемы. Ни один образ никогда не сможет полностью соответствовать понятию треугольника вообще, ибо он не достигнет всеобщности понятия, которое применимо ко всем треугольникам – прямоугольным, остроугольным и т. д., – а всегда будет ограничен лишь частью этой сферы. Схема треугольника может существовать только в мысли и означает правило синтеза воображения в отношении чистых форм в пространстве. Ещё менее объект опыта или его образ достигает эмпирического понятия; последнее всегда непосредственно относится к схеме воображения как к правилу определения нашего созерцания согласно некоторому общему понятию.
Понятие собаки означает правило, по которому моё воображение может в общем виде нарисовать форму четвероногого животного, не ограничиваясь какой-либо одной частной формой, предлагаемой опытом, или даже любым возможным конкретным образом.
Этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы – сокровенное искусство в глубинах человеческой души, истинные приёмы которого мы вряд ли когда-нибудь раскроем и представим взору природы. Мы можем лишь сказать: образ есть продукт эмпирической способности продуктивного воображения, а схема чувственных понятий (например, фигур в пространстве) – продукт и как бы монограмма чистого воображения а priori, благодаря которой и в соответствии с которой образы вообще становятся возможными, но которые должны связываться с понятием только через обозначающую их схему и сами по себе не полностью ему соответствуют.
Напротив, схема чистого рассудочного понятия есть нечто, что вовсе не может быть представлено в образе, а есть лишь чистый синтез согласно правилу единства по понятиям вообще, которое выражает категория. Это трансцендентальный продукт воображения, касающийся определения внутреннего чувства вообще по условиям его формы (времени) в отношении всех представлений, поскольку они должны а priori связываться в понятии согласно единству апперцепции.
Не останавливаясь на утомительном и скучном анализе того, что требуется для трансцендентальных схем чистых рассудочных понятий вообще, мы представим их в соответствии с порядком категорий.
Чистый образ всех величин (quantorum) для внешнего чувства – это пространство; для всех объектов чувств вообще – время. Чистая схема величины (quantitatis) как понятия рассудка – это число, представляющее собой последовательное сложение единицы с однородной единицей. Таким образом, число есть не что иное, как единство синтеза многообразия однородного созерцания вообще, благодаря которому я произвожу само время в восприятии созерцания.
Реальность в чистом рассудочном понятии – это то, что соответствует ощущению вообще; то есть то, чье понятие само по себе указывает на бытие (во времени); отрицание – чье понятие представляет небытие (во времени). Противопоставление обоих происходит в различии времени как наполненного или пустого.
Поскольку время – лишь форма созерцания, а значит, и предметов как явлений, то то, что в них соответствует ощущению, есть трансцендентальная материя всех объектов как вещей самих по себе (предметность, реальность).
Каждое ощущение имеет степень или величину, благодаря которой оно может более или менее заполнять одно и то же время, то есть внутреннее чувство в отношении того же представления объекта, пока не сойдет на нет (= 0 = отрицание). Поэтому существует отношение и связь, или, вернее, переход от реальности к отрицанию, представляющий всякую реальность как количество. Схема реальности как количества чего-то, поскольку оно заполняет время, есть именно это непрерывное и равномерное порождение его во времени – когда от ощущения, имеющего определенную степень, спускаются вниз до его исчезновения или же постепенно поднимаются от отрицания к его величине.
Схема субстанции – это постоянство реального во времени, то есть представление его как субстрата эмпирического определения времени вообще, который остается, пока все остальное меняется. (Время не течет, а в нем течет существование изменчивого. Таким образом, времени, которое само неизменно и постоянно, в явлении соответствует неизменное в существовании – субстанция, и только через нее можно определить последовательность и одновременность явлений во времени.)
Схема причины и причинности вещи вообще – это реальное, при произвольном положении которого всегда следует нечто другое. Она состоит в последовательности многообразного, поскольку та подчинена правилу.
Схема общности (взаимодействия) или взаимной причинности субстанций в отношении их акциденций – это одновременность определений одной с определениями другой согласно всеобщему правилу.
Схема возможности – согласованность синтеза различных представлений с условиями времени вообще (например, противоположное не может быть в вещи одновременно, а лишь последовательно), то есть определение представления вещи к какому-либо времени.
Схема действительности – существование в определенное время.
Схема необходимости – существование объекта во всякое время.
Из всего этого видно, что схема каждой категории:
– для количества – порождение (синтез) самого времени в последовательном восприятии объекта,
– для качества – синтез ощущения (восприятия) с представлением времени, или наполнение времени,
– для отношения – связь восприятий между собой во всякое время (по правилу временного определения),
– для модальности – само время как коррелят определения объекта (принадлежит ли он времени и как).
Таким образом, схемы суть не что иное, как априорные определения времени по правилам, которые, следуя порядку категорий, относятся:
– к временному ряду (количество),
– к временному содержанию (качество),
– к временному порядку (отношение),
– к временному объему (модальность) – в отношении всех возможных объектов.
Отсюда ясно, что схематизм рассудка через трансцендентальный синтез воображения сводится к единству всего многообразия созерцания во внутреннем чувстве и, опосредованно, к единству апперцепции как функции, соответствующей внутреннему чувству (рецептивности).
Схемы чистых рассудочных понятий – это истинные и единственные условия для их отнесения к объектам и придания им значения. Поэтому категории в конечном счете применимы лишь в возможном эмпирическом употреблении, так как они служат лишь для подчинения явлений всеобщим правилам синтеза через априорно необходимые основания единства (в силу необходимой связи всего сознания в изначальной апперцепции) и тем самым для их полной связи в опыте.
В целом возможного опыта заключено все наше знание, и в отношении к нему состоит трансцендентальная истина, предшествующая всякой эмпирической и делающая ее возможной.
Однако заметно и то, что хотя схемы чувственности реализуют категории, они же их и ограничивают, то есть ставят в зависимость от условий, лежащих вне рассудка (в чувственности). Поэтому схема – это лишь феномен, чувственное понятие объекта, согласующееся с категорией. (Число есть количество как феномен, ощущение – реальность как феномен, постоянство и устойчивость вещей – субстанция как феномен…)
Если мы устраним ограничивающее условие, то, казалось бы, расширим ранее ограниченное понятие. Так, категории в их чистом значении, без условий чувственности, должны бы относиться к вещам вообще, каковы они есть, тогда как их схемы представляют их лишь как явления. Но на деле, даже после отвлечения от всех чувственных условий, чистые рассудочные понятия сохраняют лишь логическое значение единства представлений, без отнесения к объекту. Например, субстанция без чувственного условия постоянства означала бы лишь «нечто, что может мыслиться как субъект (не будучи предикатом чего-то другого)» – но это ничего не говорит о свойствах такой вещи.
Таким образом, без схем категории – лишь функции рассудка для образования понятий, но не представляют никакого объекта. Их значение дается чувственностью, которая реализует рассудок, одновременно ограничивая его.
Глава вторая. Система всех основоположений чистого рассудка.В предыдущей главе мы рассмотрели трансцендентальную способность суждения лишь в общих условиях, при которых она вправе применять чистые рассудочные понятия для синтетических суждений. Теперь наша задача – систематически изложить суждения, которые рассудок действительно априори создает при этой критической осмотрительности. Здесь нам, несомненно, должна руководить таблица категорий, ибо их отношение к возможному опыту составляет все априорное знание рассудка, а их связь с чувственностью вообще позволит полностью и систематично изложить все трансцендентальные основоположения применения рассудка.
Основоположения априори называются так не только потому, что содержат основания других суждений, но и потому, что сами не основаны на более высоких и общих знаниях. Однако это не всегда избавляет их от доказательства. Хотя объективно дальше доказывать нечего (поскольку они лежат в основе всякого знания объекта), все же необходимо субъективное доказательство из источников возможности познания объекта вообще – иначе они могут показаться произвольными.
Во-вторых, мы ограничимся лишь основоположениями, относящимися к категориям. Принципы трансцендентальной эстетики (например, что пространство и время – условия возможности вещей как явлений) и их ограничение (неприменимость к вещам самим по себе) не входят в наше исследование. Также математические основоположения не относятся к этой системе, так как выводятся из созерцания, а не из чистых рассудочных понятий, но их возможность (как синтетических априорных суждений) здесь будет рассмотрена – не для доказательства их истинности (в чем они не нуждаются), а для объяснения и выведения самой возможности таких очевидных априорных знаний.
Мы также коснемся основоположений аналитических суждений, противопоставляя их синтетическим (которые нас и интересуют), так как это противопоставление прояснит природу последних и устранит недоразумения.
Первый раздел. О высшем основоположении всех аналитических суждений.Какого бы содержания ни было наше познание и как бы оно ни относилось к объекту, всеобщее (хотя и только негативное) условие всех наших суждений вообще состоит в том, что они не должны противоречить сами себе; в противном случае эти суждения сами по себе (даже безотносительно к объекту) – ничто. Но даже если в нашем суждении нет противоречия, оно всё же может связывать понятия так, как этого не требует объект, или же без какого-либо основания – ни a priori, ни a posteriori, – которое оправдывало бы такое суждение. Таким образом, суждение, даже будучи свободным от всякого внутреннего противоречия, может быть либо ложным, либо необоснованным.
Принцип: Ни одной вещи не принадлежит предикат, противоречащий ей, называется законом противоречия и является всеобщим (хотя и чисто негативным) критерием всякой истины. Однако именно поэтому он относится только к логике, поскольку имеет силу для познаний лишь как познаний вообще, безотносительно к их содержанию, и утверждает, что противоречие полностью уничтожает и аннулирует их.
Тем не менее, этот принцип можно использовать и позитивно – не только для исключения лжи и заблуждения (поскольку они основаны на противоречии), но и для познания истины. Ведь если суждение аналитическое (будь оно отрицательным или утвердительным), его истинность всегда можно достоверно распознать, опираясь на закон противоречия. Действительно, то, что уже заложено в познании объекта как понятие и мыслится в нём, всегда должно правильно отрицаться в своём противоположении, тогда как само понятие необходимо утверждается, поскольку его противоположность противоречила бы объекту.
Таким образом, мы должны признать закон противоречия всеобщим и вполне достаточным принципом всякого аналитического познания. Однако его авторитет и применимость не простираются дальше этого – он служит достаточным критерием истины, но не более. То, что никакое познание не может ему противоречить, не уничтожая себя, делает этот принцип conditio sine qua non, но не определяющим основанием истинности нашего познания. Поскольку мы здесь занимаемся именно синтетической частью познания, мы, конечно, всегда будем следить за тем, чтобы не нарушать этот нерушимый принцип, но от него нельзя ожидать никакого разъяснения относительно истинности познания такого рода.
Однако существует формулировка этого знаменитого, хотя и лишённого всякого содержания, чисто формального принципа, которая включает в себя синтез, внесённый в неё по неосторожности и совершенно без необходимости. Она гласит: Невозможно, чтобы нечто одновременно было и не было. Помимо того, что здесь излишне добавлена аподиктическая достоверность (через слово невозможно), которая и так должна быть понятна из самого принципа, суждение здесь подвержено условию времени и как бы говорит: Вещь = А, которая есть нечто = В, не может одновременно быть не-В; но она вполне может быть и тем, и другим (и В, и не-В) последовательно. Например, человек, который молод, не может одновременно быть старым, но один и тот же человек вполне может быть в одно время молодым, а в другое – не-молодым, то есть старым.
Между тем, закон противоречия как чисто логический принцип вообще не должен ограничивать свои утверждения временными отношениями, поэтому такая формулировка совершенно противоречит его цели. Непонимание возникает исключительно из-за того, что предикат вещи сначала отделяют от её понятия, а затем соединяют с этим предикатом его противоположность, что никогда не создаёт противоречия с субъектом, а только с предикатом, синтетически связанным с ним, – и то лишь в том случае, если первый и второй предикаты полагаются одновременно.
Если я говорю: Человек, который неучёный, не есть учёный, то здесь необходимо подразумевается условие одновременно, ведь тот, кто неучёный в одно время, может в другое время быть учёным. Но если я скажу: Ни один неучёный человек не есть учёный, то это суждение аналитическое, потому что признак (неучёности) теперь входит в само понятие субъекта, и тогда отрицательное суждение непосредственно вытекает из закона противоречия, без необходимости добавлять условие одновременно. Именно поэтому я выше изменил формулировку этого принципа так, чтобы природа аналитического суждения была выражена в ней ясно.
Второй раздел. О высшем основоположении всех синтетических суждений.Объяснение возможности синтетических суждений – это задача, с которой общая логика не имеет ничего общего и даже не должна знать её названия. Однако для трансцендентальной логики это важнейшее из всех дел, и даже единственное, когда речь идёт о возможности синтетических суждений a priori, а также об условиях и пределах их значимости. Ведь только решив эту задачу, она сможет полностью достичь своей цели – определить границы и пределы чистого разума.
В аналитическом суждении я остаюсь в рамках данного понятия, чтобы вывести из него нечто. Если суждение утвердительное, я лишь прибавляю к этому понятию то, что уже в нём мыслилось; если отрицательное – исключаю из него противоположное. Но в синтетических суждениях я должен выйти за пределы данного понятия, чтобы рассмотреть в соотношении с ним нечто совершенно иное, не мыслившееся в нём, – соотношение, которое никогда не бывает ни тождеством, ни противоречием, и в котором само по себе суждение нельзя считать ни истинным, ни ложным.
Итак, допустив, что для синтетического сравнения понятий необходимо выйти за пределы данного понятия, мы приходим к необходимости третьего элемента, в котором только и может возникнуть синтез двух понятий. Но что же это за третье – это средоточие всех синтетических суждений? Это не что иное, как совокупность, в которой содержатся все наши представления, а именно – внутреннее чувство и его априорная форма, время. Синтез представлений основывается на способности воображения, а их синтетическое единство (необходимое для суждения) – на единстве апперцепции.
Именно здесь, следовательно, следует искать возможность синтетических суждений, а поскольку все три источника содержат в себе априорные представления, то и возможность чистых синтетических суждений. Более того, они даже необходимо вытекают из этих оснований, если должно состояться познание объектов, основанное исключительно на синтезе представлений.
Если познание должно обладать объективной реальностью, то есть относиться к объекту и иметь в нём значение и смысл, то объект должен быть каким-то образом дан. Без этого понятия остаются пустыми, и хотя мы что-то мыслим, на самом деле ничего не познаём, а лишь играем представлениями. Дать объект (если это не подразумевается опосредованно, а представляется непосредственно в созерцании) – значит соотнести его представление с опытом (действительным или хотя бы возможным). Даже пространство и время, как бы чисты они ни были от всего эмпирического и как бы несомненно ни было, что они представляются в уме совершенно a priori, всё же не имели бы объективной значимости, смысла и значения, если бы не был показан их необходимый применимость к объектам опыта. Их представление – это лишь схема, всегда относящаяся к воспроизводящему воображению, которое вызывает объекты опыта; без них они не имели бы никакого значения. То же самое относится ко всем понятиям без исключения.
Таким образом, возможность опыта – это то, что придаёт всем нашим априорным познаниям объективную реальность. Опыт основывается на синтетическом единстве явлений, то есть на синтезе по понятиям объекта явлений вообще, без которого он был бы не познанием, а лишь беспорядочным набором восприятий, не связанных в соответствии с правилами всеобщего (возможного) сознания и, следовательно, не подчинённых трансцендентальному и необходимому единству апперцепции.
Таким образом, в основе опыта лежат априорные принципы его формы – всеобщие правила единства в синтезе явлений, объективная реальность которых как необходимых условий всегда может быть показана в опыте, даже в самой его возможности. Вне этой связи синтетические суждения a priori совершенно невозможны, поскольку у них нет третьего элемента – чистого объекта, на котором синтетическое единство их понятий могло бы доказать свою объективную реальность.
Хотя мы и познаём a priori в синтетических суждениях многое относительно пространства вообще или фигур, которые продуктивное воображение в нём рисует, и нам для этого вовсе не требуется опыт, это познание было бы ничем, а занятием пустой химерой, если бы пространство не рассматривалось как условие явлений, составляющих материал внешнего опыта. Поэтому эти чистые синтетические суждения, хотя и опосредованно, относятся к возможному опыту или, точнее, к самой его возможности, и только на этом основывается объективная значимость их синтеза.
Поскольку опыт как эмпирический синтез есть единственный вид познания, придающий реальность всякому другому синтезу, то и априорное познание имеет истинность (согласие с объектом) лишь постольку, поскольку оно содержит не что иное, как то, что необходимо для синтетического единства опыта вообще.
Высший принцип всех синтетических суждений гласит:
Всякий объект подчинён необходимым условиям синтетического единства многообразия созерцания в возможном опыте.
аким образом, синтетические суждения a priori возможны, если мы относим формальные условия априорного созерцания, синтез воображения и необходимое единство апперцепции к возможному опытному познанию вообще и говорим:
Условия возможности опыта вообще суть одновременно условия возможности объектов опыта и потому имеют объективную значимость в синтетическом суждении a priori.
Третий раздел. Систематическое представление всех синтетических основоположений чистого рассудка.То, что вообще существуют какие-либо основоположения, следует приписать исключительно чистому рассудку, который не только является способностью правил в отношении происходящего, но и сам есть источник основоположений, согласно которым всё (что только может являться нам как объект) необходимо подчинено правилам, ибо без них явления никогда не могли бы соответствовать познанию объекта. Даже законы природы, рассматриваемые как основные законы эмпирического применения рассудка, содержат в себе выражение необходимости и, следовательно, по крайней мере предположение определения, основанного на априорных и до всякого опыта значимых принципах. Однако все законы природы без исключения подчинены высшим основоположениям рассудка, поскольку эти основоположения применяются лишь к частным случаям явлений. Таким образом, только они дают понятие, содержащее условие и, так сказать, показатель правила вообще, тогда как опыт предоставляет случай, подпадающий под это правило.
Опасности смешения чисто эмпирических основоположений с основоположениями чистого рассудка или наоборот, по сути, не существует, ибо необходимость, присущая последним и отсутствующая в любом эмпирическом положении (как бы общезначимо оно ни было), легко распознаётся и предотвращает такую путаницу. Однако существуют априорные чистые основоположения, которые я всё же не стал бы приписывать исключительно чистому рассудку, поскольку они выводятся не из чистых понятий, а из чистых созерцаний (хотя и посредством рассудка), а рассудок есть способность понятий. Таковы основоположения математики, но их применение к опыту, а следовательно, их объективная значимость и даже сама возможность таких синтетических априорных познаний (их дедукция) всегда основываются на чистом рассудке.
Поэтому я не стану включать математические основоположения в число своих, но включу те, на которых основываются их возможность и априорная объективная значимость и которые, следовательно, должны рассматриваться как принципы этих основоположений, исходящие от понятий к созерцаниям, а не от созерцаний к понятиям.
При применении чистых рассудочных понятий к возможному опыту их синтез может быть либо математическим, либо динамическим: он направлен либо исключительно на созерцание, либо на существование явления вообще. Априорные условия созерцания абсолютно необходимы для возможного опыта, тогда как условия существования объектов возможного эмпирического созерцания сами по себе случайны. Поэтому основоположения математического применения обладают безусловной необходимостью, то есть имеют аподиктический характер, тогда как основоположения динамического применения, хотя и несут в себе характер априорной необходимости, делают это лишь при условии эмпирического мышления в опыте, то есть опосредованно и косвенно, и потому не обладают той непосредственной очевидностью, которая присуща первым (хотя и не уступают им в достоверности, поскольку относятся к опыту вообще). Впрочем, это станет яснее при завершении рассмотрения данной системы основоположений.









