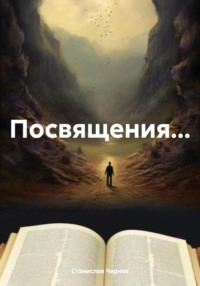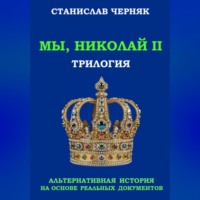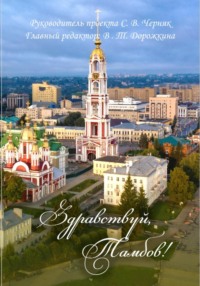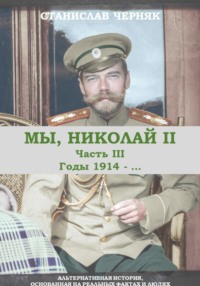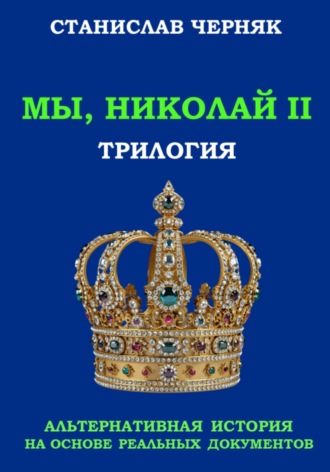
Полная версия
Мы, Николай II. Трилогия
Витте, Столыпин, Добржинский, Аликс и Мария Фёдоровна, установив стулья полукругом, сидели у моей постели. Я попытался из уважения к присутствующим дамам встать, но вдовствующая императрица-мать нежно, но убедительно попросила этого не делать.
– Что-то удалось выяснить насчёт произошедшего? – я чувствовал себя уже достаточно бодрым, чтобы на равных с окружающими вести беседу.
– Удалось, Ваше Величество, но боюсь, новости Вас совсем не обрадуют. Мы установили основных участников заговора. Нити заговора тянутся, как и предполагал Антон Францевич, далеко за границу, – голос Столыпина был спокоен и уверен, – к Ротшильдам и Рокфеллерам. Именно их очень сильно испугала Ваша активность, и они решили принять оперативные меры.
– Так быстро? – я был искренне удивлён.
– Телеграф, – деликатно вмешался в разговор Витте, – плюс телефонная линия между Москвой и Петербургом, строительство которой по Вашему указанию очень сильно форсировалось. Эти люди умеют пользоваться всеми техническими новинками.
– А можно поподробнее? – мне было действительно интересно. Всё, что сейчас происходило, не имело к известной мне реальности никакого отношения.
– Антон Францевич, поведайте, пожалуйста, Его Величеству всё, что Вашей службе удалось установить, – попросил Столыпин.
– Слушаюсь. Начну, так сказать, с конца. Отравили Вас, Ваше Величество, предварительно добавив яд в несколько отмеченных заговорщиками бутылок лимонада разных сортов и, на всякий случай, в стакан с киселём. Поэтому шансов избежать яда у Вас практически не было. Сделал эту, так сказать, гнусность молодой официант Иван Максимов, не просто так, кстати, а за щедрый гонорар в 100 рублей. Расспросив его, так сказать, с пристрастием, мы выяснили, что деньги ему обещал некто Дмитрий Белов, числящийся помощником управляющего одной из нефтедобывающих компаний, а здесь, на выставке, работающий в павильоне нефтяного производства братьев Нобель.
– Павильон Баку, Вам он ещё очень понравился, – вставил свои «пять копеек» Витте.
– Но Вы же сказали Ротшильды и Рокфеллеры, причём же здесь человек Нобелей?
– Здесь важно уточнить – он не человек Нобелей, он явно засланный казачок. Подумайте, Ваше Величество, обеспокоенные Ротшильды или Рокфеллеры наносят сразу двойной удар, пытаясь нейтрализовать Вас и, одновременно, подставить ничего не подозревающих братьев Нобель, – Витте улыбнулся. – Только они забыли русскую пословицу про двух зайцев и в итоге не поймали ни одного.
– А московские покушения тоже напрямую связаны с этими семейками Адамсов?
– С кем, простите? Про Адамсов мне ничего не известно, – Витте удивлённо заморгал, переглянувшись с остальными.
– Мне кажется, Николай Александрович, ещё не пришёл до конца в себя, – поспешила мне на помощь Мария Фёдоровна.
– В Москве всё гораздо, так сказать, сложнее, – Добржинский, прежде чем вновь заговорить, посмотрел на Столыпина и дождался его разрешающего кивка, – У нас в руках нет живых исполнителей. Но дело не безнадёжно. Во-первых, в камере был отравлен Карпович, причём тем же мышьяком. Нам удалось выяснить, что в тот день еду по камерам разносил некто Игнат Дробышев, который сменился ровно в 14:00 и больше его никто не видел – ни дома, ни у друзей и знакомых его не нашли, но, в конце концов, он не мог ведь бесследно исчезнуть, потому поиски продолжаются. Вторая нить – взрыв перед началом стрельбы на Ходынском поле. Мои люди активно ищут факты недостачи пороха и взрывателей на военных складах по всей стране. А теперь, пожалуй, самое важное…
– Позвольте мне продолжить Ваш рассказ, – остановил Добржинского Столыпин. – У нас по линии жандармского отделения появилась информация, что как минимум два человека в Вашем ближайшем окружении с высокой вероятностью находятся на обеспечении у двух этих, не к ночи помянутых, семейств. Прошу не удивляться, но это барон Владимир Борисович Фредерикс, генерал-лейтенант, шталмейстер и помощник Министра Императорского двора, и Дмитрий Фёдорович Трепов, сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Фёдора Фёдоровича Трепова, ныне справляющий должность одного из заместителей московского обер-полицмейстера Власовского.
– Ах, – только и смогла произнести Аликс.
Моё лицо в этот момент, сдаётся мне, тоже выражало крайнюю степень удивления. Два ближайших человека в окружении Николая II. Фредерикс буквально в следующем году должен был стать Министром Императорского двора и успешно выполнять свои обязанности вплоть до Февральской революции 1917 года. А Трепов, верный царский пёс, московский обер-полицмейстер в прежней реальности, назначенный после Ходынской давки, будущий генерал-губернатор Санкт-Петербурга и товарищ Министра внутренних дел.
– Так вот, – невозмутимо продолжал Столыпин. – Первого подозреваем в игре на Рокфеллеров, второму благоволят Ротшильды. Оба ярые западники, правда, ни в чём предосудительном до сего дня не замечены.
– Расклад пасьянса понятен, – резюмировал Витте. – Зная смертельную вражду между двумя влиятельнейшими семьями мира, нам осталось определиться – Рокфеллеры или Ротшильды, Фредерикс или Трепов?
– У меня есть оригинальная идея на этот счёт, – опытнейшую Марию Фёдоровну было трудно вывести из себя. – Тебе нужно встретиться с ними, Ники, возможно, тогда ты и поймёшь – кто твой главный враг.
– Господа, убедительно прошу не забывать, что именно Ротшильды предоставили нам заёмный драгоценный металл для обеспечения золотого стандарта рубля, – Витте заметно разволновался. – Прошу проявить максимум осторожности и деликатности.
– А мы для начала начнём с более простых вопросов – продолжим искать убийцу Карповича и место утечки боеприпасов, – Столыпин, как всегда, был предельно конкретен.
– Отлично, господа, тогда я, с вашего позволения, продолжу в ближайшие дни внимательно изучать отечественные новинки и достижения, только попрошу усилить охрану и назначить надёжного дегустатора блюд, чтобы избежать новой попытки отравления, – последнее слово, как и полагалось, осталось за мной.
В эту ночь я долго не мог заснуть, размышляя о взаимоотношениях Фредерикса и Трепова с влиятельнейшими семьями мира в прежней реальности. А потом мне вновь приснился Иван Васильевич Грозный в исполнении горячо любимого актёра Юрия Яковлева, настойчиво тыкающий в меня кубком и требующий отпить из него…
Глава 12
Чуть оправившись после попытки отравления, я с двойным энтузиазмом продолжил изучение выставки, знакомясь с людьми, изобретениями и достижениями родной страны. При этом я наметил в ближайшее время уделить первостепенное внимание двум вопросам – здравоохранению и развитию флота.
Охрана моя была заметно усилена, специальный человек дегустировал всё, что мне предстояло съесть и выпить. Начальник охраны всё время пытался напялить на меня противопулевой жилет, собранный из стальных пластин, а потому совершенно неподъёмный. Это приспособление в марте 1891 года во время покушения спасло жизнь премьер-министру Болгарии Стефану Стамболову. Через 4 года его – революционера и поэта – зарежут трое, чьи имена он постарался назвать в последние секунды жизни. В заказном убийстве обвинят Россию, но, пользуясь случаем, хочу уверить вас в нашей совершенной непричастности к этому делу. На Западе так всегда – сами между собой разбираются, а Россия у них виновата…
При всём уважении к нынешнему лейб-медику Густаву Гиршу, я решил усилить медицинское обеспечение царской семьи, пригласив к нему помощником лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина, сына выдающегося российского врача-терапевта и учёного Сергея Петровича Боткина. Данная кандидатура привлекла меня прежде всего бесконечной верностью Евгения Сергеевича царской семье в известной мне действительности. С императором, его женой и детьми он был до последнего смертного часа и мужественно принял мученическую смерть в подвале дома инженера Ипатьева. Будем надеяться, что и в этой жизни он нас не подведёт, а уж я, в свою очередь, позабочусь об увеличении продолжительности его жизни. В прошлом году Боткин уехал в Германию, где в ведущих медицинских учреждениях Гейдельберга и Берлина слушал лекции и занимался практикой у знаменитых немецких врачей – профессоров Г. Мунка, Б. Френкеля, П. Эрнста и других. Это меня по-настоящему радовало, и я готов был подождать его возвращения пару-тройку месяцев.
В эти дни я решил взяться за вопросы здравоохранения в стране всерьёз. Каково же было моё удивление, когда от специалистов я узнал, что медицина в стране, по сути, была бесплатной – да, именно, – бесплатными были амбулаторное лечение, лечение в больницах, хирургическая и специальная помощь, родовспоможение. Плата за медпомощь сохранялась только в уездных городских больницах и лишь для пациентов из других уездов. Таким образом, "великое завоевание Октября"– бесплатное медицинское обслуживание, оказывается, было в целом достигнуто в Императорской России уже в конце XIX столетия.
Мне оставалось увеличить число земских и уездных больниц и количество коек в стационарах, обеспечить кадровый состав медучреждений в провинции, систематизировать и отладить лекарственное снабжение жизненно важными препаратами. Особенно меня тревожила проблема высокой смертности от острых инфекционных заболеваний: чумы, оспы, холеры, тифа.
– Здоровье нации должно стать одним из приоритетов социальной политики, – заявил я на выездном заседании Особой комиссии по борьбе с чумой, которым руководил принц Александр Петрович Ольденбургский. – Наша медицина получила международное признание. В Российской Империи сложились выдающиеся научные школы, во многом опередившие развитие медицины и здравоохранения в других развитых странах, посему основной задачей на сегодня вижу внедрение передовых научных достижений в жизнь, применение их на практике, а также создание новых протоколов лечения основных заболеваний современными эффективными методами. Нам в срочном порядке необходимо построить трёхзвенную структуру медицинской помощи населению: врачебный участок, уездная больница, губернская больница.
Забегая вперёд, скажу, что в целом реформа здравоохранения прошла успешно. Быстрыми темпами развивалось открытие новых больниц и медицинских учреждений, значительно увеличилось число врачей, фельдшеров, акушерок, дантистов. Значительно выросло число аптек и профессиональных фармацевтов. Уже к 1900 году в 17 медицинских вузах училось около 10000 студентов. За пять лет почти в 3 раза сократилась смертность от инфекционных заболеваний, во всех более-менее значимых населённых пунктах появились санитарные врачи с широкими полномочиями. В городах заработали центры скорой медицинской помощи. За первое десятилетие моего правления ежегодное число получающих медицинскую помощь выросло вдвое и достигло 100 миллионов человек, смертность взрослого населения снизилась примерно на четверть, а детская – вдвое.
Ах, мне бы ещё антибиотики, но до открытия пенициллина Флемингом оставалось три десятилетия, а создатель российского пенициллина Зинаида Виссарионовна Ермольева вообще ещё не успела родиться.
Надо сказать, что с Александром Петровичем Ольденбургским у нас сложились прекрасные отношения. Этот человек в 1890 году на собственные средства открыл Институт экспериментальной медицины в Петербурге, на базе которого мы адаптировали к российским условиям лучшие зарубежные открытия и практики. Также много жизней в России спасла особая изолированная противочумная лаборатория, под которую был выделен Кронштадтский форт «Император Александр I». Чуть позже принц основал первый на Кавказском побережье Гагрский климатический курорт, проложив в район железнодорожную ветку, поборов местную лихорадку и благоустроив гагрские пляжи. После этого реальностью стали бесплатные льготные путёвки для малообеспеченных сограждан.
При мощной финансовой поддержке государства русская медицина испытала настоящий рассвет. Мною были обласканы и обеспечены всем необходимым будущие Нобелевские лауреаты – физиолог Иван Петрович Павлов, микробиолог Илья Ильич Мечников и многие другие. Русские учёные провели новаторские исследования структуры мозга, стояли у истоков новых областей медицины: судебной психиатрии, гинекологии и гигиены, были основоположниками электрофизиологии и электрокардиографии. Так было и в известной мне реальности, но я продолжал максимально ускорять все процессы развития страны.
Самое пристальное внимание было уделено армейской и флотской медицине: специальные институты и академия, обновление оборудования на уровне первичного звена, увеличение зарплат медиков и медицинского персонала…
Расследование, возглавляемое Столыпиным и Добржинским, результатов пока не приносило, это немного напрягало, но обилие работы отвлекало от грустных мыслей.
В Нижнем Новгороде у меня состоялась и первая встреча, положившая начало нашей активной работе с Павлом Петровичем Тыртовым – адмиралом, известным русским флотоводцем и управляющим Морским министерством. Развитие флота было самым важным вопросом моего целеполагания. Во-первых, в октябре нам предстояло провести большой морской парад, посвящённый 300-летию создания Российского флота, а во-вторых, и об этом знал пока только я, через несколько лет нам предстояла война с Японией с целой чередой сражений флотов.
Глава 13
«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», – песня, конечно, замечательная, но сама история её создания весьма грустная. Разве это дело, когда во время Русско-японской войны крейсер русского флота «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в неравный бой против шести японских крейсеров и восьми миноносцев в районе бухты Чемульпо. Надо будет немало потрудиться, чтобы не допустить подобного.
Российское военно-морское руководство находилось под влиянием доктрины «морской мощи» американского адмирала-теоретика Альфреда Тайера Мэхэна, придерживавшегося концепции, согласно которой определяющая роль океанского флота в грядущих войнах якобы окупала все затраты на его постройку. В целом я был с этим согласен, но, зная события грядущего, значительно перераспределил морские силы между флотами. Особо экспериментировать тоже было опасно. Наш вечный враг Великобритания внимательно отслеживала всё происходящее на Чёрном море. И неизвестно ещё, как изменится ход истории, если этот флот ослабить. Тоже касается и Балтийского флота. Но в любом случае нужно значительно укреплять Тихоокеанский.
На момент нашей встречи с адмиралом Балтийский флот имел в своём составе свыше 250 современных кораблей всех классов, в том числе эскадренные броненосцы «Пётр Великий», «Император Александр II», «Император Николай I», «Сисой Великий», «Гангут», «Наварин», «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», броненосные крейсера «Генерал-Адмирал», «Герцог Эдинбургский», «Минин», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Память Азова» и бронепалубный крейсер «Адмирал Корнилов».
Черноморский флот располагал куда более полноценными линкорами, чем Балтийский, и имел в своём составе 7 эскадренных броненосцев, 1 крейсер, 3 минных крейсера, 6 канонерских лодок, 22 миноносца и другие корабли поменьше.
Первая Тихоокеанская эскадра была гораздо слабее и малочисленнее. Я дал указание пересмотреть взгляд на военное положение России в Тихом океане и принять срочные меры по значительному усилению Тихоокеанского флота. Было принято решение ограничиться на Балтийском море флотом береговой обороны, а за счёт него увеличить силы Тихого океана до 10 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсеров, 10 бронепалубных крейсеров, 10 крейсеров 2-го ранга, 2 минных заградителей, 36 истребителей и миноносцев. Помимо этого, я значительно ускорил начало производства линкоров-дредноутов типа «Императрица Мария». По моим расчётам, 4-5 кораблей такого типа могли реально изменить ход войны на просторах Тихого океана. Линкоры-дредноуты получили более мощную артиллерию, в состав которой вошли четыре 305-мм орудия главного калибра и четырнадцать 203-мм орудий среднего калибра, из которых 8 орудий были установлены в четырех двухорудийных башнях, а шесть – в казематах верхней палубы.
Огромное внимание уделялось и развитию подводного флота. Росло число подводных лодок и значительно улучшались их технические характеристики. Немаловажным фактором также являлось то, что Русский Императорский флот на Тихом океане получил на побережье Жёлтого моря долгожданную незамерзающую базу – Порт-Артур, куда мы начали перебазировать корабли из Владивостока, но, учитывая мои знания будущего, которое я объяснял окружающим как предчувствие помазанника Божьего, Владивостокский отряд крейсеров и номерных миноносцев также был значительно усилен.
Параллельно я дал распоряжение строить новую – Вторую Тихоокеанскую эскадру. Российские корабельные (скажу больше – все военные заводы) работали круглосуточно, но всё равно не справлялись с масштабом поставленных задач. Поэтому по нашему заказу в Германии строились бронепалубные крейсера «Богатырь», «Новик», «Аскольд», Франция строила для России эскадренный броненосец «Цесаревич», Америка – целую партию крейсеров проекта «Варяг». Кстати, мы убедительно попросили американцев подумать о броневом прикрытии орудий, расположенных на верхней палубе, чтобы облегчить в будущем работу артиллерийских расчётов.
Шло активное оснащение флота самыми мощными орудиями калибром до 305мм и орудиями среднего (152-203мм) калибра. Большинство русских корабельных орудий были французскими или английскими. Это объяснялось тем, что в русском Морском министерстве появились франкофилы, которые попытались свернуть выгодное русско-германское сотрудничество. Я постарался исправить эту ситуацию, зная расклады грядущей Первой мировой войны. Ничто так не улучшает межгосударственные отношения, как взаимовыгодное сотрудничество. На самом деле работы хватало всем.
Кардинальной доработки требовали броненосцы береговой обороны. Помимо слабого вооружения, у них был малый запас хода и малая осадка, характерная для Балтийского моря, что было совершенно недопустимо в условиях Тихого океана.
И, конечно же, нужно было доводить до ума русские бронебойные снаряды, недостатки которых, как я хорошо помнил, выявило Цусимское морское сражение. При попадании в корабль противника они не взрывались, при этом японские фугасные снаряды, снаряженные шимозой, при попадании в русские корабли при взрыве давали большое число осколков и вызывали пожары, причём несмотря на то, что экипажи перед боем убирали все деревянное и горючее, это не помогало. Почему бы и нам не использовать опыт будущего противника?
Отдельно предстояло позаботиться и о порохе. Новый пироксилиновый порох значительно увеличивал скорострельность орудий. Благо первый завод по производству такого пороха в нашей стране открылся в Казани в 1894 году.
Кстати, немного отвлекусь и расскажу довольно интересную историю. Бездымный (пироксилиновый) порох был изобретён в 1884 году французским инженером, механиком и химиком Полем Мари Эженом Вьелем вместе со своим коллегой – Пьером Бертло. Новый порох был настолько хорош, что французская военщина моментально засекретила изобретение. В России задачу раскрыть секрет производства данного продукта поручили самому выдающемуся химику – Дмитрию Ивановичу Менделееву. Он, пользуясь мировым авторитетом и прекрасными отношениями с изобретателем, мог бы, подобно Джеймсу Бонду, тайком прокрасться в офис производящей компании, взломать сейф и выкрасть рецепт. Или взять в заложники самого Вейля, долго его пытать, вырвать клещами правду, а потом растворить ненужного изобретателя в плавиковой кислоте. Но Менделеев поступил как настоящий учёный. Он досконально изучил статистику железнодорожных перевозок и характер грузов, транспортируемых на заводы по производству пороха. И пришёл к выводу: если одно, другое и третье смешать в нужных пропорциях, получится то самое!
Чтобы не сдавать Порт-Артур в ближайшем будущем и не сжигать с потом и кровью построенные корабли, я попросил уделить первоочередное внимание усилению береговой артиллерии. Пока мы ориентировались на 10-дюймовые пушки образца 1895 года с усиленными лафетами. В дальнейшем их заменят более современные и скорострельные орудия. По этому вопросу я пообщался с военным инженером полковником Константином Ивановичем Величко и на четыре года приблизил срок окончания работ, чтобы успеть к началу войны. Согласно проекту, необходимо было установить на приморском и сухопутном рубежах обороны базы 552 орудия, из них 124 на 22 береговых батареях. Я предложил на 40% увеличить эти цифры, чтобы суметь защитить побережья бухт Голубиной, Тахе и горный массив Лаотешань и не позволить противнику безнаказанно обстреливать Порт-Артур и его оборонительные сооружения со стороны моря. Также я распорядился увеличить гарнизон Порт-Артура до 18000 человек, а затраты на сооружение сухопутных и приморских укреплений увеличить вдвое – до 30 миллионов рублей…
А ещё стране предстояло построить новую ветку снабжения Дальнего Востока. Единственная железная дорога была стратегической артерией, перерезав которую, враг мог оставить наш Тихоокеанский флот без снабжения. Пока я дал задание разрабатывать проект, что из этого вышло, расскажу позднее.
Сказать, что я уставал, было не сказать ничего. Круг рассматриваемых вопросов всё ширился. Если бы не сильная команда профессионалов с Сергеем Юльевичем Витте во главе, я бы уже, скорее всего, сломался.
Через три недели мы с семьёй вернулись в Санкт-Петербург. Там, как оказалось, меня ждали интересные новости. Столыпин и Добржинский запросили аудиенции на следующее утро после моего прибытия в столицу.
Глава 14
Как всё-таки странно устроен человек. Я как-то пару раз бывал в Эрмитаже, и он мне тогда казался таким пафосным, громоздким, неуютным. Теперь же Зимний Дворец воспринимался как дом, и к немалому своему удивлению я ощутил приятное чувство возвращения в родную гавань. Интересно, а если бы меня поселили среди жутких экспонатов кунсткамеры, насколько быстро бы я привык и освоился?
В этой связи хочу вставить небольшую ремарку. Наше проживание в Зимнем дворце было временным, связанным с кардинальной перестройкой Александровского дворца в Царском Селе, затеянной ещё подлинным Николаем Александровичем по настоятельной просьбе супруги Александры Фёдоровны. В итоге была уничтожена свитская половина: на её месте появились личные апартаменты императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. В левой анфиладе – Спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная императрицы, в правой – Столовая (Приёмная Николая II), Рабочий кабинет, Уборная императора и другие служебные помещения. Чуть позже был уничтожен Концертный зал Дж. Кваренги, занимавший всю ширину левого корпуса. Архитектор Сильвио Амвросиевич Данини предлагал несколько вариантов приспособления корпуса под жилые и парадные покои для императорской семьи. В одном из проектов он предусматривал сохранение Концертного зала, однако в ходе работ, выполненных фирмой Мельцера, Концертный зал всё-таки был уничтожен, и на его месте на первом этаже левого флигеля Александровского дворца появились Кленовая гостиная Александры Фёдоровны и Парадный (Новый) кабинет императора Николая II, а на втором – комнаты детской половины; коридор, разделяющий личные апартаменты императора и императрицы, был продлён до Угловой гостиной. Также под правой половиной открытого дворика был устроен подвал, и в цоколе колоннады пробиты окна для его освещения.
По случаю возвращения в Петербург был подан праздничный завтрак, в котором принимали участие, помимо нас с супругой и Марией Фёдоровной, ещё порядка двух десятков родственников и самых доверенных лиц. Яйца всмятку, ветчина, бекон, несколько видов бесподобного хлеба – ржаного, сдобного, сладкого, фантастическое по вкусу сливочное масло, сочные ломтики сёмги, чёрная икра, маринованные миноги (терпеть не могу!), свежевыпеченные круассаны, большой выбор джемов и варенья. Мне по традиции подали «моё любимое» блюдо – драгомировскую кашу. Звучит красиво, но по сути это была гречка с грибами и сливками. Правда, подавалась она слоями, как пирог, и была щедро полита ароматным соусом из лесных грибов. Николай II очень любил это блюдо, поэтому, чтобы не вызывать подозрений, мне тоже приходилось регулярно им питаться.
Я немного отвлекусь и пооткровенничаю с вами – первое время я был буквально в шоке от обилия чёрной икры и никак не мог ею вдоволь наесться. Но не может ведь Император Российский заглатывать деликатес столовыми ложками? Поэтому немного, аккуратно, пара-тройка бутербродов. И знаете – я начал со временем понимать незабвенного таможенника Верещагина из кинофильма «Белое солнце пустыни». Самое интересное, что исполнитель роли Павел Луспекаев не был рад редкому угощению. Зрители ошибочно считают, что в кадре актёр ест какой-то заменитель, похожий на чёрную икру. Деликатес был самым что ни наесть настоящим, в чём Луспекаев убедился за несколько дублей, съев практически килограмм. Именно поэтому он в сердцах и сказал: «Опять эта проклятая икра!».