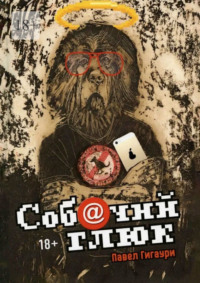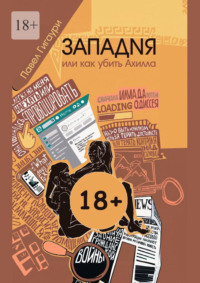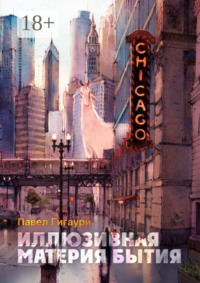Полная версия
Тридцать три жизни
Поначалу воодушевленные воины Оды одерживали победу за победой в битвах с другими правителями. Но по прошествии некоторого времени в войсках Оды Набумаге появились признаки деморализации, боевой дух пал, и Ода не мог понять, что же происходит: его лучшие воины ходили, низко опустив головы.
А происходило следующее: наложницы, которые были отправлены к Ясуке, возвращались к другим придворным. Бедные женщины страдали от своей неволи, волею судеб оказавшись в положении проституток, хотя многие из них имели знатное происхождение. Они не могли противиться судьбе, но дух непокорности продолжал жить в них, как и в их сестре из «Тысячи и одной ночи». Они нашли способ отомстить своим поработителям. Женская интуиция сработала безошибочно. Находясь в интимной близости с кем-то из придворных, женщина (все они рано или поздно пришли к этому) лукаво усмехалась или закатывала на секунду глаза – так, что самурай обязательно спрашивал: «Что ты усмехаешься, что не так?» Тогда лукавая женщина говорила с виноватой усмешкой, что после Ясуки трудно насладиться близостью с японцем. Такая брошенная, как бы с сожалением, фраза западала в душу самурая. Он мог крикнуть «Пошла вон!» или сделать вид, что пропустил все мимо ушей, как не заслуживающее интереса, но тревога и сомнение селились в душе. В скором времени женщины, прошедшие через Ясуку, заметили, что их перестали звать к другим придворным, чтобы они облегчили их суровую жизнь.
Среди самураев начался массовый невроз. Никто не мог сказать другим, в чем дело, и каждый переносил свое унижение в одиночестве. Каким бы храбрым и умелым воином ты ни был, но когда тебя говорят, что кто-то лучше тебя в постели, потому что у него больше фаллос, смириться с этим трудно. Так воины Оды Набумаге потеряли силу духа.
Результат не заставил себя ждать. В 1582 году, три лета спустя после того, как нога Ясуки ступила на землю Японии, Ода Набумаге был разбит генералом Акечи Митсухиде. Ода Набумаге совершил харакири, или, по-другому говоря, сепукнул. Ясука, который ни в каких битвах не участвовал, потому что никогда и нигде не учился военному делу, а был прислугой и занимался домашним хозяйством, сбежал к наследнику Оды Набумаге Оде Набатуте. Но и тот в скором времени был разбит, и Ясука попал в плен к Акечи Митсухиде. Он очень надеялся на свой орган, но все обернулось иначе. Генерал Акечи допросил учителя Ясуки, и тот сказал, что его подопечный ничем, кроме саке и женщин, не интересуется и за три года не выучил ни одного японского слова – попросту говоря, туповат.
И тогда Акечи Митсухиде произнес фразу, которая спасла честь японских мужчин и возродила дух самураев: «Чем больше у человека член, тем он глупее! Банзай!» И приказал отправить Ясуку на рисовые плантации. Там след черного слуги теряется…
Тессера «Человек без лица»
Дверь камеры, лязгая железными запорами, как затвором винтовки, открылась. Два охранника втащили безвольное тело, бросили на пол, ничего не говоря, развернулись и вышли. Третий охранник закрыл за ними дверь, так же лязгая замком, как затвором.
Тело пошевелилось и застонало. Петр Яковлевич поднялся с нар, подошел к человеку на полу и присел на корточки рядом:
– Эй, друг, потихоньку поднимайся и ложись на нары. Я тебе помогу.
Человек, лежавший лицом вниз, уперся руками в пол, поднял голову и повернул ее в сторону Петра Яковлевича. Чаадаев увидел, что лица у человека не было.
– Приподнимитесь, я вас поддержу, – Чаадаев потянул человека за подмышки, но тот болезненно застонал:
– Осторожно! У меня ребра сломаны. Сейчас, я сам, – хрипло, прерывисто проговорил человек без лица.
Наконец он с трудом поднялся на четвереньки и, опершись на руку Чаадаева и глухо рыча от боли, перебрался на нары. Он сел на нары как мог глубоко, прислонился спиной к холодной каменной стене.
– Может, ляжете?
– Нет, не могу. Когда я лежу, то не могу дышать.
– Воды хотите? У меня есть немного – тут, в кружке, – предложил Чаадаев.
– Да.
Чаадаев осторожно приложил ее к губам человека на нарах. Тот осторожно перехватил кружку своей рукой и стал пить воду маленькими глотками. Когда он допил все до дна, то опустил кружку и глубоко вздохнул:
– Еще есть?
– Нет. Больше нет.
– Спасибо. Какие маленькие радости! Воды попить…
Чаадаев молча принял кружку и так же молча поставил ее на свою постель.
– Надо мне собраться с силами. К утру меня расстреляют, – спокойно сказал сосед.
Чаадаев молча посмотрел на него и так же спокойно сказал:
– Нет, вас не успеют расстрелять. Вы сами умрете: здесь, в камере. А меня, кстати, обвинят в вашем убийстве, чтобы не освобождать.
Человек без лица чуть помолчал, пропуская через себя информацию, а потом спросил:
– Откуда ты это знаешь? Или ты и правда хочешь меня убить?
– Нет, убивать вас я не хочу. Я знаю будущее, – как можно проще ответил Чаадаев.
– Еще совсем недавно я подумал бы, что вы сумасшедший, но сейчас, перед смертью, меня ничего не удивляет, и все кажется возможным… – Помолчав, человек без лица спросил: – Как тебя зовут, кудесник?
– Чаадаев, Петр Яковлевич.
– Однофамилец друга Пушкина, – уверенно сказал человек на нарах.
– Нет, не однофамилец, а тот самый и есть, – спокойно ответил Чаадаев.
– Хм, – чуть потянул с ответом человек на нарах. – А как это может быть?
Он спросил это, не пытаясь высмеять собеседника или унизить его своим полным неверием. Просто ему хотелось знать: если это возможно, то как?
– Ведь вам же должно быть около ста пятидесяти лет…
– Вы правда хотите знать? Предупреждаю: это не для слабонервных.
– Меня сейчас трудно удивить. Что может быть хуже смерти? – человек на секунду задумался, а потом добавил: – Хуже смерти может быть только долгая мучительная смерть. Рассказывай!
– Слушайте, командарм…
– Ты знаешь, что я командарм. Ты провокатор? Тебя ко мне подсадили? – с горечью спросил человек без лица.
– Тяжелое начало. Одно из моих основных наблюдений здесь, в этом времени, в этой революции – это то, как люди отвергают здравый смысл. Просто глобальное отречение от здравого смысла, уход в бред!
– Говорит человек, который утверждает, что знает будущее, – в тон Чаадаеву отозвался человек без лица.
Петр Яковлевич усмехнулся:
– Согласен, звучит парадоксально. Парадоксально и смешно. Но посудите сами. Что от вас может быть нужно провокатору? Вас, так называемого легендарного командарма Гражданской войны, пытались заставить сознаться в том, чего вы не делали. И, перебив все кости, отбив все внутренние органы до такого состояния, что до утра вы не доживете, заставили-таки сознаться в этом. Что еще от вас нужно? Вы все подписали.
Человек без лица молчал. Чаадаев тоже.
– Говори, Чаадаев, говори! А то я уплываю.
– Так вот. Однажды ко мне явился ангел. Он объявил мне, что за свои письма я должен буду прожить тридцать три жизни. Они будут протекать одновременно в прошлом и будущем. Прошлое и будущее относительны – они тоже настоящее. Сейчас, здесь для нас с тобой, скажем, две тысячи двадцатый год – будущее, а семнадцатый год этого столетия – прошлое. Но для меня, который сейчас в две тысячи двадцатом году, сегодня и здесь – прошлое, а для меня в семнадцатом году сегодня – это будущее. Получается замкнутый круг. Получается, что я уже пережил сегодня с точки зрения меня из две тысячи двадцатого года, и поэтому я знаю, что произойдет.
– Послушай, Чаадаев, получается, что мы с тобой уже разговаривали, и еще будем разговаривать, и так до бесконечности… Зачем все это? Допустим, это не бред сумасшедшего, а все так. Зачем жить и переживать все опять и опять? Ты и так знаешь, что будет…
– Я знаю, что будет, но не знаю, почему. Ангел сказал, что я должен найти что-то вроде рецепта – идею того, как должна быть устроена жизнь в нашем государстве. Не во всем мире, а только в нашем государстве. И если я не найду этого решения за тридцать три жизни, этот рецепт уже будет не нужен.
– И что, нашел?
– Нет. Пока пытаюсь понять, почему все идет вкривь и вкось. Что сводит людей с пути? Почему они отвергают здравый смысл? Это моя методология: сначала понять, что не так.
– Если бы мы с тобой разговаривали на свободе, где-то в другом месте, я бы не стал продолжать беседу, потому что ты сумасшедший. А здесь – ничего: отвлекает! Все так болит…
– Допустим. Но я со своим сумасшествием хочу установить реальные факты.
– Например?
– Например, факт, что мы сидим в этой камере, оба по выдуманным обвинениям, мы ничего не делали из того, что нам вменяется. Факт? Факт.
– Факт, – согласился человек без лица.
– Следующий вопрос сложнее. Что такого мы сделали в жизни, что оказались здесь?
– Ничего. Ничего такого мы не сделали, – уверенно ответил командарм.
– Мы уже установили с вами и согласились, что не совершали преступлений, которые нам вменяются. Это понятно. Но что-то пошло в наших жизнях не так, и мы оказались здесь. Это итог нашей жизни. Почему мы здесь?
– Нас оклеветали, – хрипло сказал сосед Чаадаева.
– Конечно, – согласился Петр Яковлевич. – Вы опять возвращаетесь к тому же. Я могу вам сказать, почему меня арестовали. Я никогда политикой не занимался, в Гражданскую меня, правда, один раз расстреляли, но это отношения к делу не имеет.
– За кого воевал?
– Ну, уж не за вас, конечно.
– Хотя бы честно. Не испугался, – с некоторым уважением отозвался человек без лица.
– Чего бояться? Короче, я полюбил женщину, а она полюбила меня. И вся история. А ее начальник все домогался ее и когда узнал, что у нас отношения, написал на меня донос, чтобы убрать меня с дороги. Вот и вся моя вина: я полюбил Елену, красивую умную женщину. Так я стал англо-французско-японским шпионом. Ваша история более интересна: вы известный военачальник, обвиняетесь в подготовке дворцового переворота, подготовке убийства Сталина и верхушки партии – прямо исторический роман!
– Я ничего не готовил.
– Повторяю в который раз: конечно, нет. Но почему вы здесь? Вы, который эту революцию делал, который ее плоть и кровь, – вы здесь: переломанный, перебитый. А дальше – самое интересное. Когда реальность начнет теряться. Скажите мне честно – честно, как можете, изо всех сил честно: такое было бы возможно при царе? Могло ли такое случиться тридцать восемь лет назад? Что скажете?
В камере повисла тишина. Где-то в коридоре глухо прогремела закрывающаяся дверь.
– Ты, Чадаев, все в одну кучу валишь. Наши личные дела – и вещи исторического масштаба. Царь был главой эксплуататорского класса. Все эти помещики, фабриканты, дворяне пили людскую кровь, всех держали без прав и будущего. Это были паразиты на теле трудящегося народа! А наши жизни – они частность. Идет борьба, надо сохранить завоевания революции любой ценой.
– Но на вопрос ты, командарм, не ответил. А именно: возможно ли было такое при царе, когда людей берут ни за что и прислоняют к стенке? Ответь, было ли такое при ужасном царизме?
В ответ Петр Яковлевич услышал тяжелое дыхание.
– Я тебе сам отвечу: не было такого при царизме. Не было.
– У царизма не было будущего, – отозвался командарм.
– Так его и у коммунизма нет, – тут же парировал Чаадаев.
– Заткнись, гад! – яростно прохрипел человек без лица. – Были бы силы, я бы тебя собственными руками удавил!
– Хорошо, я больше не буду злоупотреблять вышей немощью. Но напоследок скажу: крестьян, как скот, согнали с земли и отправили в Сибирь, а оставшихся закрепостили. Голодом страну проморили так, что миллионы умерли. Людей невинных сажают и стреляют направо и налево. И, главное, рта открыть нельзя! Ради чего?
– Заткни свое хлебало поганое!
– Главное не это! А то, что вы не можете – физически не можете – принять факт, который противоречит вашей догме. Если бы у вас были силы, то вы убили бы меня сейчас. Я преподношу вам факты, известные всем, хотя и скрываемые, но вы не способны их принять. И я думаю, что в этом одна из загадок человеческого несчастья, особенно здесь. Все. Отдыхайте.
– Я верю в революцию, верю в коммунизм. И я знаю, что красные победят белых и в Германии, и в Англии, и в Америке!
Чаадаев молча лег на спину, чуть гримасничая от боли в ребрах, положил обе руки на живот, осторожно вздохнул, как бы проверяя способность дышать свободно, а потом громко сказал:
– А в Америке белых разгромят черные.
Тессера, в которой Петр Яковлевич Чаадаев убеждается в старой истине, что историческая трагедия второй раз повторяется в виде комедии
Джеймс Холмс, исполнительный директор Большой Американской Компании (БАК), вел экстренное заседание совета директоров.
– Господа, я собрал вас, чтобы сообщить, что идет ИДИ (DIE)1, а вы не проявляете никакой инициативы по формированию плана для его внедрения!
По глазам присутствующих Джеймс Холмс понял, что эти самые присутствующие не врубаются, о чем он говорит.
– То есть вы совсем зажрались и уже не видите, что происходит в мире. Ну что, совсем не понимаете, о чем я? Совсем не хотите замечать, что за окном ваших кабинетов происходит? Сидите, смотрите на мир с сотого этажа своих офисов – вниз, где копошатся маленькие люди, и отказываетесь принять реальность?
– Джим, о чем ты сейчас? – спросил финансовый директор. Он был самым смелым из всех – просто по факту того, что был финансовым директором. Средних лет мужчина с седой головой, высокий, подтянутый, очень спокойный и рассудительный, никогда, ни при каких обстоятельствах не выходил из себя – он умел держать себя глубоко в себе.
– Билл, ИДИ (DIE) от самого федерального уровня! – почти прокричал Холмс.
– DIE? ИДИ?
– Равенство, разнообразие, инклюзивность!2
– А, в этом смысле? – облегченно вздохнул финансовый директор, а за ним и все остальные присутствующие.
– Зря отмахиваетесь. Через две недели придет комиссия из Конгресса. Будет проверять, как у нас обстоит дело со всем этим. А что у нас?
– А что у нас? – отозвался директор по связям с общественностью. – Мы выделили дополнительные средства для распространения рекламы нашей компании, в роликах присутствуют все группы: люди разных рас и взглядов, весовых категорий, даже дебилы есть.
– Сам ты дебил! – оборвал его исполнительный директор. – Свои ролики можешь скрутить и засунуть себе в жопу. Ролики рекламные! Все намного серьезнее.
Вопросы стоят такие: сколько у вас представителей разных групп в совете директоров? сколько африканцев? сколько фриков? сколько бл… й? сколько краснокожих? И их всех вместе должно быть больше, чем нас. Понятно? А что у нас? Получается, что у нас системный расизм! Осталось две недели. И замечу: кто борется с системным расизмом, тот получает федеральные фонды и разного рода пакеты льгот. На это выделены миллиарды и миллиарды. Понятно?
– Мы можем составить четкий график с конкретными датами, когда и кого мы будем брать в совет директоров, – оживился финансовый директор.
– Этого мало. Мы слишком светимся. Кто у нас из меньшинств? Ни одного «ПÓКа»,3 ни одного фрика и даже толстых нет. А мы – Большая Американская Компания. Можно сказать, самая большая.
– У нас есть Чанг – он может сойти за цветного, – вмешался директор отдела кадров.
Энди Чанг был директором международного отдела.
– Курт, о чем ты говоришь? У Чанга айкью выше, чем у тебя, – огрызнулся исполнительный директор.
– У нас есть еврей – Сэм Фильштейн, – вставил директор по связям с общественностью.
Фильштейн был ответственным за инвестиционную стратегию компании.
– Да, это находка! Молодец! Ты явно недопонимаешь, о чем мы говорим. Еврей крутит деньги, причем большие. В чем тут ИДИ? Еврей без денег – как деньги без еврея. Нет, дорогие мои, чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Нужно выискивать внутренние резервы. Это аврал! И поэтому надо быть готовым к жертвам.
В зале для совещаний воцарилась гробовая тишина, так что было слышно приглушенный шум стоэтажного каньона улицы.
– Значит, так, – почти зловеще проговорил Джеймс Холмс. – Ты, Бен, – обратился он к директору по связям с общественностью, – завтра объявишь, что ты женщина. Ты меня понимаешь?
– То есть как?
– Сделаешь официальное заявление: ты понял, что на самом деле женщина, и хочешь официально поменять пол. Что тут непонятного? Ты становишься трансом и остаешься в совете директоров.
– Помилуйте! У меня жена и четверо детей! Как я им объясню? И я не хочу менять пол!
– Твоя жена любит летать в Париж на частном самолете, барахло покупать? А твои детки любят слетать во Флориду или Калифорнию на арендованном самолете – травки покурить, со всякой шантрапой пошляться? Золотая молодежь! Мы тебе к годовому бонусу два лимона подбросим.
– Пять, – тут же парировал Бен.
– Четыре. И это мое последнее слово, – отрезал исполнительный директор.
Все поняли, о каких жертвах говорил Холмс. Тишина в офисе стала гнетущей, всасывающей все в себя наподобие глубокого вакуума. Все наружные звуки попадали в пространство офиса и там исчезали бесследно.
– Нужны фрики. Спрашиваю напрямую, чтобы избежать лишней суеты. Есть ли среди вас скрытые фрики? Это шанс выйти из шкафа. И сделаете доброе дело, – почти добродушно сказал Джим. – Нужно двое.
Немая сцена в вакууме тишины обрела гипсовую твердость, когда среди этого полного окаменения с вселенским грохотом, нарушающим мироуклад, вдруг поднялась рука пресс-секретаря.
– Молодец! Все это и так знали, а теперь ты можешь не скрывать. И заметь: всем хорошо! Но нам нужен еще один. Добровольцы есть?
Добровольцев не было.
– Хорошо. Кто у нас подойдет?
Все, кроме тех, чья роль уже была определена, сидели, потупив взгляды и опасаясь смотреть Холмсу в глаза.
Исполнительный директор Джеймс Холмс обвел взглядом всех присутствующих и остановился на директоре по ИТ.
– Фил! Говоря современными терминами, ты страдаешь от лукизма и эйжизма: красивый и молодой. Тебе и быть пидором.
– Я против. Категорически против! – вспылил молодой и красивый Фил.
Вместо ответа Холмс молча смотрел на него в упор. Пауза затягивалась – Фил выдерживал этот взгляд.
– Это не обсуждается! Если получим федеральные бабки, тебе десять лимонов к бонусу, – жестко сказал Холмс.
– Хорошо, – неожиданно легко согласился Фил.
– Это почему вдруг ему десять, а мне – только четыре? – возмутился директор по связям с общественностью.
– Потому что! – четко ответил исполнительный директор.
– А мне вообще ничего, – отозвался только что вышедший из-за шкафа пресс-секретарь.
– Ты объявил о том, кто ты есть на самом деле, и мы помогли тебе это сделать. Ты стал самим собой. Так что это ты должен нам заплатить.
– Я сделал это в нужный для компании момент, – не сдавался пресс-секретарь.
Холмс вопросительно посмотрел на финансового директора. Тот, откашливаясь, сказал, что пятисот тысяч в данной ситуации будет достаточно.
– Следующий вопрос – самый серьезный. Тут внутренними резервами не обойдешься, – Холмс перешел к новому пункту повестки собрания, тем самым давая пресс-секретарю понять, что его вопрос закрыт. – Нам нужны «поки»!
– В смысле Покемоны? – вдруг резво засмеялся айти-директор. – Или покимэны – еще лучше!
– При чем здесь это? – не понял финансовый директор.
– Игра есть такая – «Найти Покемона», – отозвался молодой и красивый директор.
– Хорошо, пусть будут покимэны, – оценил шутку Холмс. – Нам нужно найти покимэна. Эта задача поручается тебе, – Холмс кивнул на директора отдела кадров, – а заодно – и бабу, но только толстую и безобразную, предпочтительно лесбиянку, чтобы ни у кого не возникли мысли о сексизме.
Директор отдела кадров заерзал на стуле:
– А где мне взять этого самого покимэна? У нас все покимэны работают либо уборщиками, либо в секьюрити.
– Это не моя забота, а твоя. Ты директор отдела кадров! Ищи, где хочешь – твоя работа на кону. С этим пока все. Будем обсуждать в рабочем порядке. Есть еще один пункт.
Холмс обвел присутствующих глазами: все смотрели в одну точку, которая располагалась на переносице исполнительного директора.
– Вы слышали про русских?
– Что именно? – уточнил финансовый директор.
– То, что они везде вмешиваются, пытаются разжечь расовую ненависть, натравить нас друг на друга, мухлюют с нашими выборами.
– Я думаю, что все видели это в новостях, – ответил за всех осторожный финансовый директор.
– Все пытаются избавиться от этой заразы. Мы не должны отставать от веяний времени. У нас есть русские?
– Есть. Занимается Японией, ничего за ним замечено не было, – отозвался директор отдела кадров.
– Кто такой? Как зовут? – резко спросил Холмс.
– Питер Джакоб Чадвик, или просто Питер Джей Чадвик. Только это не настоящая фамилия – настоящую выговорить невозможно. Поэтому все называют его Чадвик.
– Значит, он настоящую фамилию скрывает! Надо сообщить о нем в ФБР – пусть проверят. А то прямо у нас под носом творят, что хотят! Все, все свободны.
Тессера, в которой Питер Чадвик читает интервью с руководителем балетной труппы
На семьдесят пятом этаже был обеденный перерыв, он же ланч. Святое время для мистера Чадвика – директора японского отдела. Время не только и не столько для еды, сколько для серфинга новостей.
Одной рукой Петр Яковлевич держал вегетарианский сэндвич, а другой мучил мышь. Информации было много, а настоящих новостей – мало. Новостные сайты пытались привлечь к себе любой ценой, как и рекламные объявления. Задача непростая. Как привлечь внимание к банальности? Решение такое: если в прицеле мужчины, то надо показать нечто привлекательное женское. Какая связь между годовым процентом займа и фотографии девушки с неприлично большой грудью? Зато позитивная подсознательная реакция мужской части населения с традиционной ориентацией! Чаадаева это раздражало: женская грудь вызывала у него самые положительные эмоции, но в обычной жизни, а в рекламе ипотеки это казалось ему пошлым и унизительным. За кого вы нас держите?
Но это вновь и вновь возвращало мысли Чаадаева к многоопытному наблюдению: чтобы использовать человека, нужно, чтобы информация прошла, минуя кору мозга, – сразу оказалась внутри. Захватить крепость – значит либо перелезть через стены, либо пройти, прорваться или проскользнуть через ворота. Это средневековая аналогия, а современная – проникновение компьютерного вируса: пробирается «под дурачка», а потом завладевает всем компьютером. Прямо пропорциональная естественная зависимость: чем у человека тоньше кора головного мозга, тем легче его использовать. Например, для революции.
Вот нечто интересное. «Но звон брегета им доносит, что новый начался балет…» «Брегет»4 сейчас стоит пятьдесят тысяч баксов. При всей любви к моему дорогому другу, я их не куплю. По идее, это было бы оригинально – иметь «Брегет», как память об этом, или «пока не дремлющий брегет не прозвонит ему обед…» Не в «Брегете» дело, а просто мне его очень не хватает…
Итак, интервью.
Новый балет Бруклинского моста… «Узрю ли русской Терпсихоры душой исполненный полет…»
– В современном мире новаторство в искусстве идет по пути распада. От строгой гармонии, где царит дисциплина, правила выражения, самовыражения, все движется к большей свободе, но и к большему хаосу. Где граница инновации? Ведь если двигаться по этому пути, то все может прийти к полному беспорядку. В чем новизна вашего балета? Где ваша граница гармонии и хаоса?
– Вы правы насчет хаоса и распада. Они уже произошли, и дальше распадаться некуда – это конец пути. Нужны новые формы – не потому, что необходима новизна сама по себе, так сказать, потому что прискучило все старое; новые формы нужны, потому что пришло новое содержание жизни. На наших глазах происходит изменение парадигмы бытия.
– Поясните на примере балета. Как это меняет форму танца?
– Вот в этом главное заблуждение! Вы говорите о балете, как о танце. Но балет – это язык, который наполняет танец; содержание, которое наполняет движение, меняет парадигму восприятия. Балет в традиционном смысле – это элитарное расистское занятие для маленькой кучки людей. В старом балете одни ограничения, исключения больших групп людей из творческого процесса. Это не что иное, как проявление всех или почти всех дискриминационных предрассудков евроцентристского видения мира – от расизма до презрительного отношения к людям с повышенной телесной структурой. Почему Белоснежку не может танцевать черная балерина?
– Технически может. Но она должна быть белой, судя по имени.
– Вот, это ваше ограниченное видение, глубоко закостенелое! А если она Белоснежка, потому что у нее душа чистая, как снег? Если это говорит о ее духовном состоянии?
– Это совсем другое видение, но тоже расистское. Получается, что белый – это цвет чистоты, а черный – цвет грязи, при этом мы говорим о моральных ценностях.